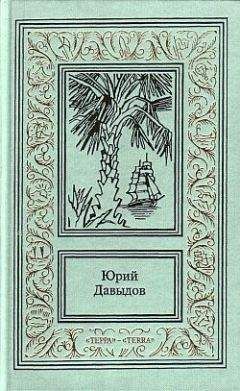Но и после этого альбомы не давали закрыть крышку. Он, подцепляя ногтями защелки, с перекошенным от отчаяния лицом толкал и давил крышку. Наконец последний замочек щелкнул, закрываясь.
С трудом разогнувшись, он выпрямился, потирая поясницу. Фрак лежал на постели ничком, как обессилевший человек, в изнеможении рухнувший на постель. Кастровский снова поспешно опасливо выглянул из окна, вернулся к чемодану, оттащил его в угол, где были сложены все остальные вещи, и прикрыл все своим старым пальто.
Больше спешить было незачем. Он ровно разложил брюки и расправил на одеяле фрак, чтобы тому было спокойно лежать, и тихонько погладил его по плечу и по скользкому отвороту. Немного погодя он в перламутровом галстуке, повязанном поверх широкого, хомутом повисшего на тощей шее воротничка, спустился в сад и, потирая руки, стал прохаживаться вдоль берега. Плавно вскинув руку, он замахал ею в воздухе, издали приветствуя приближающуюся с того берега лодку.
- Точно какая-то Венеция, а? Не правда ли? На гондоле - в концерт! любезным тоном обратился он к Истоминой, потом озабоченно пожевал губами и задумчиво добавил: - Только чтой-то она очень уж того... маленькая!
Легкая прогулочная лодка, из тех, что до войны выдавались здесь напрокат отдыхающим, стремительно подлетела к набережной. Стоявший наготове на носу солдат уперся обеими руками в поперечное бревно крепления свай и подтянул ее бортом к удобному спуску.
Истомина в коротеньком сером пальто, надетом поверх длинного голубого концертного платья, опасливо подошла к самому краю и протянула руки. Солдат бережно принял ее и осторожно усадил на кормовую скамеечку, где уже заранее была разостлана шинель.
Кастровский, пересиливая страх, самонадеянно приговаривал: "Ничего, ничего, голубчик... Уж я-то как-нибудь сам!" - и то протягивал солдату руку, то вырывал ее обратно. Наконец он вцепился солдату в плечо, замер в неустойчивом равновесии, порывисто шагнул, еле устояв на своих плохо гнущихся длинных ногах, и, побагровев от усилия, рухнул на скамейку.
Солдаты потихоньку оттолкнулись и осторожно стали выгребать наперерез течению.
Оглянувшись назад, Истомина увидела дорожку, спускающуюся к реке, свое опустевшее кресло, дом, уже едва проглядывавший сквозь зелень деревьев, и ей вдруг захотелось громко засмеяться от радости - наконец-то она вырвалась!
Весла с равномерным всплеском опускались и взлетали, оставляя на воде винтом завивающиеся воронки, точно маленькие водоворотики.
Она опустила пальцы в воду. Все было знакомо: тугое нажатие забурлившей вокруг пальцев холодной воды, ощущение глубины под дном лодки, запах речного ветра, порывами сеющего прохладные брызги в лицо...
Лодка с разгона выскочила носом на пологий берег и остановилась. Солдаты подтянули ее еще подальше. Елена Федоровна, перешагнув через низкий борт, ступила на влажный песок, и они все вместе пошли вдоль спускавшегося в воду заграждения из спиралей колючей проволоки к зеленому грузовику, ждавшему под деревьями.
В парке синели сумерки. Ожидавшая их машина, громко захрустев шинами по сырому песку, медленно тронулась, осторожно огибая крутые повороты парковых аллей, где прежде запрещалось ездить. Теперь все было можно, все было пусто, безлюдно, и на песке дорожек, как тяжкая печать войны, глубоко оттиснуты следы гусениц.
Унылая цепочка намертво погашенных войной фонарей, сгорбившись, выстроилась по бокам длинной сумрачной аллеи. Справа побежали чугунные копья ограды, и машина свернула к дому.
Просторный двухэтажный вестибюль с широкой белой мраморной лестницей был полон людей. Их было так много, что она никого не могла разглядеть, только чувствовала на себе множество взглядов и видела смутно, не зная, куда девать глаза, чьи-то толсто забинтованные руки, подогнутые ноги, стриженные под машинку головы, белые повязки и бледные лица.
Им навстречу уже шел с приветливым достоинством маленький военврач в развевающемся на ходу белом халате. Здороваясь, он слегка набок наклонил и тотчас вздернул голову, точно хотел сказать: немножко поклонился - и хватит, большего от меня не дождетесь. Истомина заметила только большие выпуклые глаза за сильными стеклами очков и что-то уж очень большой и очень розовый нос.
Военврач проводил их в свой голый, белый и холодный кабинет.
Кастровский с обычной общительной болтливостью, едва успел сесть, осведомился насчет имени-отчества маленького (хотя, как оказалось, главного) врача и тотчас завязал тактичный разговор на "медицинские" темы, начиная каждую фразу: "Вот вы говорите, Осип Евсеевич..." - хотя Осип Евсеевич сам решительно ничего не говорил, а только устало морщился и неохотно, но обстоятельно отвечал на вопросы.
Истомина несколько минут молчала, радуясь, что на нее не обращают внимания. С сочувствием подумала о том, как, вероятно, трудно маленькому человеку с таким выдающимся, унылым, точно подмороженным носом держаться с гордым достоинством и что все-таки, кажется, ему это каким-то образом удается.
Наконец Кастровский наткнулся глазами на ее строгий, предостерегающий взгляд, скомкал фразу и замолчал.
Она спросила, где ей придется петь.
- Вы проходили через вестибюль? Там очень просторно. Очень высокий потолок и нечто вроде купола, так что, насколько я понимаю, там недурной... резонанс. - С каким-то удовольствием произнеся это слово, он покраснел, точно проговорился, и сейчас же строго и настороженно огляделся, как сердитая носатая птица.
За закрытыми дверьми плавно заиграл баян Саши, начинавшего концерт.
- Прекрасный резонанс, - сказала Истомина. - Вы не ошиблись, действительно прекрасный.
Подошла девушка в белом халате и косынке, помогла ей снять пальто и подержала перед ней небольшое круглое, очень ясное зеркальце, пока она поправляла волосы и подкрашивала губы. Потом она вдруг спросила:
- А можно я вам поясок поправлю? - Она нагнулась и с видимым удовольствием расправила пояс и складки на платье; отодвинувшись, осмотрела издали, так, точно оправила куклу или ребенка, и мечтательно призналась, что просто ужасно любит все голубое.
Саша играл уже вторую вещь - певучий вальс с раскатами и замираниями. Вот-вот уже нужно было выходить. Волнуясь с каждой минутой сильней, она перестала отвечать на вопросы, стояла, опустив глаза, и хмурилась.
Военврач вышел в вестибюль, через минуту вернулся и что-то ей сказал, чего она почти не расслышала, поняла только, что уже больше нельзя стоять на месте, надо собрать все силы и выйти в открывшуюся перед ней дверь. Борясь с желанием опять опустить голову, чтоб ничего не видеть, она быстрыми шагами пошла по узкому проходу через толпу.
Лица, лица, спокойные, усталые, безразличные, любопытные, угрюмые. Костыли, кресла на колесах, забинтованные головы, гипсовые повязки. В стороне, у дверей боковых коридоров, несколько носилок, и на них недвижные, какие-то странно плоские под серыми одеялами тела людей с недоверчиво и строго ждущими глазами.
Осип Евсеевич, показывая дорогу, довел ее до подножья мраморной лестницы, запруженной ранеными. В том месте, где лестница с площадки начинала широкий поворот ко второму этажу, стоял в ожидании Саша, придерживая на груди баян. Они встретились глазами на мгновение. "Он тоже волнуется, боится за меня, - подумала она с отчаянием. - Зачем я так рано согласилась петь, ведь я еще не поправилась, я не могу, я их обману! И оттягивать больше нельзя, кругом тишина, все ждут, а у меня нет сил, нет голоса, вот сейчас все увидят, что нет!" Она сделала Саше знак начинать, прикрыв на мгновение глаза, и Саша заиграл уверенно и смело. Счастливый Саша с его всегда послушным инструментом.
Она нашла точку, куда смотреть, - маленькое стрельчатое окошко с витой чугунной решеткой. "Только бы голос. Пусть в последний раз в жизни, только бы вернулось свободное дыхание и звучал бы голос - и ничего мне в жизни больше не надо..."
Момент вступления надвигался грозно и неотвратимо, как фонари ночного поезда. И вот уже что-то ей жарко дохнуло в лицо, момент наступил, она услышала звук своего голоса, неуверенный и слабый; он поплыл где-то невысоко над столпившимися людьми, не взлетая вверх, как нужно. Подняв глаза, она уцепилась взглядом за высоко, под куполом прорезанное окошко, физически чувствуя, что голосом не достает до него. Пусть в последний раз, пусть хоть в последний раз! Только нельзя форсировать сразу. Еще рано... Вот сейчас нужно будет усиливать... Вот уже... И что-то ликующее дрогнуло в сердце, голос, точно расправив наконец крылья, взлетел под купол, она уловила его отголосок оттуда, сверху, откуда-то выше окна... Значит, она поет. Опять поет! Теперь ничего не страшно, все хорошо!..
Когда она начинала петь, раненые, стоявшие и сидевшие на ступеньках лестницы, сестры, санитары, врачи, столпившиеся в дверях, все видели одно и то же: очень утомленное, исхудалое лицо немолодой женщины в голубом платье, так странно выглядевшем среди шершавых, рыжих, мятых халатов и коротко стриженных голов. Но после того, как она спела вторую вещь, никто уже не помнил ее такой, какой она представлялась им до начала пения. Слова, которые в другое время никого бы не тронули, вместе с чудом музыки и теплого, такого полного жизни голоса, как будто знакомого, где-то давно слышанного, позабытого и вспомненного, радостно, с силой прорвались прямо к сердцу людей. Точно падали замки и тяжелые засовы темных кладовых человеческих душ, где в скрытности и разъединенности прячется у всякого своя боль, и отчаяние, и горе, и заглохшая, забытая радость, и незажившая тоска, и надежда. Тугие, тяжелые замки, которые не поддаются под ударами железа, неслышно падали от певучего прикосновения музыки, и многие со смутным чувством освобождения с удивлением думали: откуда же это она знает про то, мое? Значит и у других как у меня? Я не один? И знают эту мою тоску?

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)