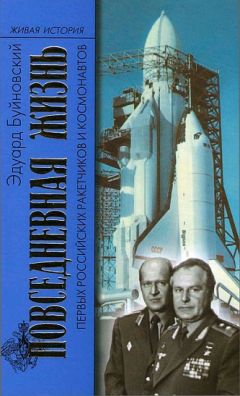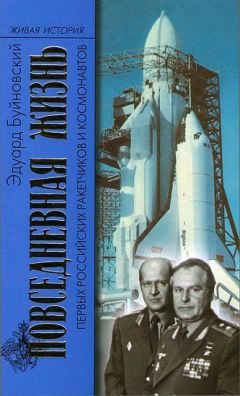-- В общем, я от себя тоже присоединяюсь к ее приглашению. Так что ждем!
Он заторопился в казарму, а я от неожиданности даже остановился. Вот тебе и фунт изюма! Получить приглашение к Молозовым! Я, конечно, отдавал себе отчет, что этим был обязан только своему теперешнему положению соломенного вдовца. Может быть, в первую минуту и обрадовался в душе возможности скоротать вечер в семейной обстановке, в тепле и уюте. Жена Молозова слыла в нашем городке из четырех домиков добрейшим человеком. К ней люди шли и по другой причине: она лечила всех. Я никогда не видел ее хмурой: приветливая улыбка всегда светилась на ее миловидном лице с большими голубыми глазами, сочными губами и родимым с дробинку пятном, прилепившимся неизвестно как в складке носа. Марина Антоновна казалась мне воплощением женственности, мягкости и кротости, поэтому для меня было в диво слышать признание Молозова там, в лесу, на запасной позиции. Впрочем, пути человеческие неисповедимы, и тем более -- женские...
К вечеру, однако, я решил, что идти к Молозовым совершенно незачем. Во мне заговорило уязвленное самолюбие. Сидеть с кислой миной, выслушивать банальные слова участия, ловить на себе предупредительные взгляды и знать, что ухаживают за тобой из сожаления, жалости, -- удовольствие ниже среднего!
Вернувшись домой, прямо так, не раздеваясь, в сапогах, шинели, не зажигая света, завалился на неразобранную кровать. Мертвенно-зеленый свет луны бил в окно, лежал на полу вытянутой трапецией. На душе у меня было гадко. Наташка теперь уже не один день в Москве. Что она делает? Неужели у нее нет и тени раскаяния, не грызет совесть, не хватают за сердце, как у меня, вот эти невидимые щипцы так, что слезы навертываются на глаза? Увидеть бы ее со стороны, подсмотреть, какой она остается наедине с собой, без людей, без свидетелей.
И достаточно терзать и казнить себя. Точка. Испытывать еще судьбу в службе: не слишком ли это много? Надо начинать новую жизнь. В конце концов, у меня больше оснований, чем у Буланкина. Андронов, Молозов да и другие должны понять...
Я закурил, продолжая лежать в темноте, когда услышал скрип входной двери. Голос замполита зазвучал в коридоре, он, видно, о чем-то переговорил с Ксенией Петровной. Я не успел подняться с кровати, как майор после стука появился на пороге.
-- Так, так... Мы ждем, а он в том интересном положении, о котором еще греки говорили, что оно лучше, нежели сидячее! Спите?
-- Нет.
Я зажег свет. Молозов оглядел комнату быстрым, оценивающим взглядом, мимолетная тень прошла по его лицу.
-- Ну вот что, собирайтесь, Константин Иванович. Послала: иди, веди --и только.
"А может, сказать ему о своем решении? Он ведь еще не знает, --родилась мысль. -- Нет, лучше не говорить, пусть читают с Андроновым рапорт".
Пришлось собираться. Дома, распахнув передо мной дверь и пропуская вперед, Молозов негромко, с хозяйской уверенностью и добродушием проговорил:
-- Принимай гостей, Марина Антоновна.
Она вышла навстречу, в небольшом переднике, все с той же неизменной, знакомой улыбкой. Волосы ее, сейчас собранные в пучок, скрепляли крупные шпильки -- эта несколько небрежная прическа еще больше шла к ее миловидному смуглому лицу. Из кухни распространялись пряные запахи.
-- Проходите, проходите.
В комнате мне сразу бросился в глаза ковер над кроватью, он был такой же, как у нас, -- желтый, с красными разводами. Иголкой кольнуло в сердце. Во второй комнате, наверное, укладывались спать дети: слышались их перешептывания и приглушенный смех. Мать то и дело уходила туда, успокаивала их. Вскоре они утихомирились.
Пока Марина Антоновна собирала на стол, майор, переодевшись в полосатую пижаму, усадил меня на деревянный диванчик, взяв с тумбочки альбом, показывал фотографии. Одна из них, уже пожелтевшая, нечеткая, запечатлела, видимо, тот известный мне факт их свадьбы, о котором он рассказывал. Заметив, что я заинтересовался фотографией, он сказал:
-- Это то самое... Свадьба наша. На другой день товарищ подвернулся, щелкнул для истории, для детей. Помнишь, Марина, нашу свадьбу? О ней идет речь. -- Он засмеялся. -- Весь богато сервированный стол виден: чекушка водки, селедка, хлеб! Да, было время...
Он вдруг примолк. Возможно, фотография вызвала у него далекие и невеселые воспоминания. Но, по-видимому пересилив себя, он снова загорелся:
-- А вот сахалинский и курильский периоды службы... Край земли у черта на куличках! Даже Марина считает, что теперь живем в центре! -- Он подмигнул, подавая мне фотографию.
Здесь были и землянка, и нары, и какая-то женщина, одетая в сапоги, ватник, шапку; в ней, этой женщине, пристально вглядевшись, я отметил смутное сходство с Мариной Антоновной.
-- Да, жили. А теперь действительно чем не центр? После майских праздников усиленными темпами обещают строить дорогу, кол им в бок! За лето, говорят, закончат. И будем так: жик -- и в городе! Думаю, и в театр, и в кино офицеров с семьями станем возить. Телецентр в городе строят, ретрансляцию тянут, Москву, столицу, видеть будем! А ведь это здорово, Константин Иванович?
В его глазах с прищуром играли горячие огоньки.
-- Да, хорошо, -- сдержанно отвечал я, испытывая двойственность своего положения. Что-то кощунственное и постыдное, казалось, было в том, что слушал эти речи, зная, что мне больше не суждено здесь служить. Ведь во внутреннем кармане моей шинели, которая висела в коридоре, лежал рапорт!
Марина Антоновна, появившись из кухни с алюминиевым чайником в руках, пригласила к столу.
Пили чай с вареньем и рассыпчатым печеньем, приготовленным хозяйкой. Она пекла его недавно, потому что таявшие во рту сдобные ванильные медальки хранили еще пыл духовки. Она не назойливо, но внимательно угощала меня. Молозов пил янтарно-коричневый чай с прихлебом, обжигаясь и смешно причмокивая губами. Полное лицо распарилось.
-- Ну и вода, ну и чай! -- искренне восторгался он, то и дело прерывая разговор. -- Вот что значит артезианская водичка! Да из-за одной такой воды теперь можно у нас служить! От комиссий, пожалуй, вовсе отбоя не будет, а? -- Он осклабился, морщинки веером разбежались к вискам.
-- Брось, Коля, -- мягко перебила жена. -- Ты не можешь ни о чем, даже о простых вещах, говорить без пафоса. Любишь гиперболы, хотя и не поэт.
-- Как не поэт? Э-ха, уже забыла! Вот тебе на! А кто с фронта тебе письма-стихи писал? Пусть там своего было немного... А гиперболы... люблю. Точнее -- не гиперболы. Просто, Марина, не приземляю вещи, стараюсь смотреть на них не мрачными, не обыденными глазами. И вдруг тогда вещи и события открываются передо мной иначе, начинают сиять невиданными до сих пор гранями. Куда там баккара! Красоту-то надо еще увидеть!
-- Знаю, знаю! Начнешь сейчас философствовать...
-- Не буду.
После чая, пока жена убирала со стола, Молозов достал с этажерки альбом в коричневой коленкоровой обложке, положил передо мной на стол:
-- А вот другое творчество.
Отвернув плотную корку, я удивился: карандашные и акварельные рисунки-пейзажи, видно сахалинские, дальневосточные, -- узкая каменистая бухта, какие-то развесистые деревья, перевитые лианами, и портреты... Жена -- нарядная, в декольтированном платье, с розой в начесанных конусом волосах, сыновья Молозова, суровый Андронов с резкими складками и даже круглолицый беззаботный Скиба...
Мог ли я предположить: Молозов -- и художник? С интересом и любопытством рассматривал точные, выразительные рисунки.
-- Вот, час попозируйте, Константин Иванович, и портрет могу выдать,--дружески, потирая руки, предложил он.
Я извинился, вежливо отказался: настроение у меня было прескверное. Хотя, в общем-то, убедился, что зря собирался выслушивать слова участия, стать объектом для выражения жалости. Ничего этого не случилось. За все два часа не было сказано ни одного слова о Наташке, за что в душе я благодарил хозяев.
-- Ну что ж, не удерживаю, -- поднялся майор. -- Только с одним условием, Константин Иванович: беру слово, что завтра или послезавтра придете снова.
Марина Антоновна с улыбкой поддержала мужа. Мне пришлось согласиться. На крыльце Молозов задержал меня:
-- Жаловалась Ксения Петровна: говорит, будто приходите и уходите так, чтобы не видеться. Верно это? В себе все не носите, не замыкайтесь. Главное -- не чурайтесь людей, они да время -- хорошие бальзамы человеческих ран.
По мягкому, душевному тону я понял, что ответа на свои слова он и не ждал. Вот из-за этих-то слов, наверное, и приглашал меня!
Мы расстались. Я ушел, так и не сказав ему о своем решении. Все равно узнает. Сутками раньше, сутками позже -- теперь неважно...
До собрания оставалось еще около часа. Собирался завалиться, по обыкновению последних дней, на кровать, но негаданно явился сержант Коняев.
-- Товарищ лейтенант, вас вызывает подполковник Андронов.
Вызывает так вызывает... Скорее всего, конечно, из-за рапорта. Посмотрим, что он надумал за эти дни? Ясно, не в восторге. Тогда, на другой день после посещения Молозовых, отдал рапорт Андронову в канцелярии. Он взял нехотя, развернул сложенный листок. И знакомая болезненная мина -- вот опять история, эх ты, жизнь моя горемычная! -- появилась на его лице.