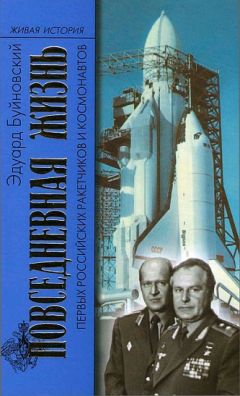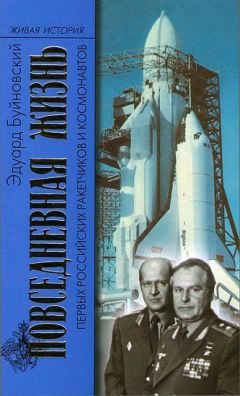"Полезет. Теперь его не остановишь! -- кольнуло в голове. -- Демушкин будет прав, если выстрелит, -- часовой!" Тотчас представились возможные последствия. Не допустить этого. В конце концов, и беда-то невелика, если напьется!
Я в два шага оказался рядом с солдатом:
-- Рядовой Демушкин, приказываю пропустить старшего лейтенанта в дизельную! Пусть напьется.
Мои решительные слова возымели действие. На сукровичном лице солдата под густыми бровями, покрытыми тонкими, мельчайшими капельками влаги, непонимающе бегали глаза. Он настолько растерялся, что тут же, перехватив карабин, вскинул руку к шапке, отдавая мне честь, и еще больше смутился. Буланкин был уже за бруствером, скрылся в темневшем проходе капонира дизельной станции. Солдат дышал прерывисто. Подняв на меня взгляд, будто спрашивал молча, с мольбой: что же теперь со мной будет?
-- Я возьму его, Демушкин... Обо всем доложу командиру.
В полутемноте капонира Буланкин, чертыхаясь и ворча, гремел банками и канистрами. Я успел занести ногу через порог дощатой узкой двери, закрывавшей вход в дизельную, когда в углу блеснула неяркая вспышка. В одно мгновение увидел выхваченные пламенем спички кабины дизельгенераторов, выстроившиеся в ряд, согнутую спину Буланкина, опрокинутую канистру у земляной стены... Бензин! И вместе с прорезавшей сознание острой мыслью, с моим выкриком: "Что ты делаешь?!" -- слился треск словно разрываемого шелкового полотна... Жгучий свет плеснул в глаза, обдало жаром, пламя хлынуло к резиновым колесам, под брюхо кабины, стоявшей в двух метрах от земляной стены.
Отскочивший Буланкин, видимо, сразу отрезвел, затрясся, бессмысленно уставившись на огонь. Пламя негодующе гудело, пожирая дорожку разлитого бензина и опрокинутую канистру. Языки его уже лизали резину переднего колеса кабины.
-- Буланкин, в кабину! Срывай огнетушители!
Я бросился к канистре, охваченной огнем. Горящая струя все еще вытекала из ее горловины. Думал только об одном: всего через какую-нибудь минуту она нагреется, и тогда -- взрыв, тогда... Рванул ее, отбрасывая дальше от кабины, к выходу из капонира. И тут заметил, как вспыхнули рукава шинели. Шинель!.. Накрыть канистру, прекратить доступ воздуха, сбить пламя! Сорвав с себя шинель, кинул ее на канистру и, опустившись па колени, с остервенением стал тушить языки огня, вырывавшиеся то здесь, то там. Они обжигали лицо, руки, но я ничего не замечал, не ощущал и горячего, душного воздуха, заполнившего капонир.
Мне показалось, что Буланкин, выскочивший из кабины, слишком долго и неумело возится с огнетушителем.
-- Быстрее, черт бы тебя побрал! -- хрипло выругался я. -- На колесо струю, на колесо!
Белая струя пены наконец вырвалась, с шипением ударила в скаты. Резина уже горела, распространяя копоть и удушливый смрад.
Потом я услышал топот ног. Люди вбегали в узкую дверь с огнетушителями, лопатами. Кто-то командовал за дощатой перегородкой: ее ломали. Она рухнула, в капонир ворвался утренний свет, и я увидел Юрку Пономарева с красной повязкой дежурного на левой руке.
Я поднялся на ноги, но чувствовал -- сейчас упаду. В голове, в ногах гудело от перенапряжения и усталости, зловещие языки пламени метались перед глазами...
-- Ты?.. С Буланкипым? Как все произошло?
Колючий, суровый взгляд Юрки уставился оценивающе, свирепо. Не ответив ему, шатаясь, вышел из дымного, смрадного капонира. Меня тошнило от саднящей боли ожогов на пальцах, запаха жженой резины, масла, паленой шерсти шинели: обгорелая, выпачканная в грязи, походившая на тряпку, она валялась рядом с канистрой.
Было уже светло. Промозглый, молочный туман обдал холодной сыростью. Опустившись на мокрую землю бруствера, я ладонями стиснул виски, стучавшие тупой болью...
Андронов нервно прошелся по кабине:
-- Судить будем офицерским судом!
И хотя его обещание относилось к нам обоим, но подполковник остановился напротив Буланкина. С презрением смотрел на тупое лицо техника. Всего минуту назад я убедился, что геройства Буланкина хватило ненамного. Объясняя Андронову происшедшее, он вдруг стал выкручиваться и юлить, стремясь выгородить себя. От дерзкого вызывающего вида не осталось и следа. Мне стало противно. Оборвав его сбивчивую речь, я честно, со всеми подробностями выложил Андронову все. Во всей этой истории я испытывал угрызение совести только перед Демушкиным и в конце попросил не наказывать оператора, взыскать с меня в большей степени.
-- Буланкин свободен, -- сказал Андронов и обернулся ко мне. -- Вы останьтесь.
Дверь кабины захлопнулась. Мы остались вдвоем. Аппаратура была выключена, и в кабине спрессовалась тишина. Только от моего шкафа долетало торопкое тиканье часов.
-- Хорошо, что не утратили честности, Перваков. А вот другое... --Андронов поднял глаза, и при неярком свете матового плафона я увидел: края губ у него опустились книзу, виски серебрились ярче, взгляд усталый. --Неужели вам нравится за ним идти, по его тропке? -- Он кивнул на дверь.
-- Иду своей, -- выдавил я. -- Не чужой.
-- Какая своя? Если на поводу у Буланкина! Сбил же вас пойти в поселок?
-- Нет, я сам предложил.
Подполковник смотрел строго, изломанная бровь приподнялась, -- должно быть, не верил моим словам.
-- Что вы намерены дальше делать? -- спросил он.
-- Мне все равно. Я подал рапорт, вы не ответили. А теперь -- суд так суд... Разрешите идти?
Я вздрогнул, когда Андронов внезапно, резким, повелительным тоном оборвал:
-- Не разрешаю! И эту браваду, товарищ Перваков, оставьте. Так уж и поверю, что вам все равно!.. Думал, найдете мужество пережить травму, смело перенести удар судьбы. Ошибся! -- Андронов возвысил голос. -- К сожалению! Вы просто, извините, раскисли, опустили руки... Офицер! И все это из-за юбки... И как ни старайтесь уверить себя в обратном -- не оригинальны в своем решении. Вы пошли за Буланкиным. "Уйти, как он, -- плохо, надо по-своему..." И вся разница! Но таков уж удел людей, становящихся на любые неверные пути. Они чаще всего скатываются в одно болото.
Я молчал; обида, горечь подступили снова.
Подполковник перевел дыхание, мягче продолжал:
-- У вас вся еще жизнь впереди, хорошая перспектива службы, роста. Уверен, большим инженером-ракетчиком можете стать, послужить доведется не только в нашей тайге, возможно, и в Москве. Советую подумать, Перваков, даже если вам придется предстать перед судом...
-- Готов заплатить сполна! -- вызывающе ответил я. -- И "болото" тут ни при чем, товарищ подполковник.
Андронов побледнел. Неловко, будто ноги его вдруг закостенели, стали негнущимися, повернулся, грузно опустился на стул.
-- Прошу вас... выйти, -- глухо сказал он. -- Идите.
Ну что ж, теперь все равно, была не была! За бруствером позиции меня поджидал Буланкин, с ехидцей спросил:
-- Думаешь, правдой милость заслужить?
-- Вот что, Буланкин. -- Я остановился, глядя прямо в его округлившиеся глаза, твердо сказал: -- Милости мне не надо, а правда нужна. И потом... хотя наши дороги, в конце концов, слились, но запомни -- у меня все равно своя.
-- Посмотрим! -- скривившись, пообещал он.
Его в тот же день отстранили от должности, и он, заметно поубавив спесь, далеко не вызывающе слонялся по гарнизону словно неприкаянный. Обо мне молчали, я продолжал работать, но помимо стыда, который испытывал, чувствовал и другое: стал чужим, ненужным, как Буланкин. Собственно, иного и не могло быть, хотя и не думал, что все так получится. Если бы человек знал заранее то место, где упадет, подстелил бы соломки!
...Третий день в дивизионе работал полковой военный дознаватель капитан Гольцев, хотя комиссия, приезжавшая сверху, из какого-то крупного штаба, признала: "Ремонт произвести на месте, силами части".
Выйдя после очередного допроса, я задержался на бетонных ступеньках казармы. Ослепительное солнце купалось в луже, и она, точно расплавленный металл, рассеивала сноп ярких, до рези, лучей. В далекой сини неба плыли над тайгой похожие на айсберги густые сахарно-белые кучевые облака. Величаво и неумолимо шла природа к весне. В воздухе стояла волнующая звенящая тишина, будто тысячи невидимых крохотных колокольцев беспрерывно сливали свой неумолчный звон. Солнце висело высоко, и, когда облако наплывало на него, сизая торопливая застень ложилась на городок, на тайгу. И сразу ощутимее становился влажно-стылый ветерок: в тайге, в ее распадках и низинах, лежали остатки снега... Да, весна, весна! А в моих ушах, забивая ее перезвон, еще слышался голос дознавателя: "Не знаю, не знаю... Впрочем, пахнет судом офицерской чести".
Файзуллин вырос передо мной неслышно, точно из-под земли. Он, должно быть, направлялся к поленнице дров, сложенной у сарая. Скуластое лицо его оскалилось, радостно засияли голубовато-белые яблоки глаз под стать белизне поварского колпака, надвинутого на лоб.
-- Отец письмо прислал, товарищ лейтенант. "Передавай спасибо, привет лейтенанту Перваков". И еще совет отец давал: приглашай, Мустафа, в гости товарищ лейтенант домой, Казань. Любой день, любой время. Барашка жирный будет резать...