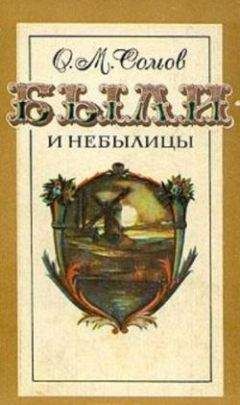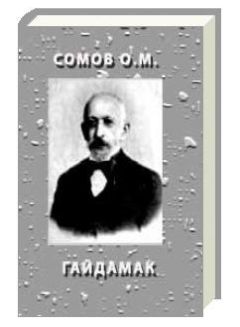Товарищи Ридька, завидуя новому любимцу их пана, хотели допытаться, чем он вкрался в милость Максима Кирилловича. Подойдя на цыпочках и приложа ухо к дверям, они жадно ловили каждое слово, сказанное в светлице майоровой, и узнали все дело почти с такою ж подробностию, как и мы теперь его знаем. Любопытство и болтливость — два главнейшие порока слуг: в минуту вся дворня Майорова узнала, что в саду их пана является клад и что в этот самый вечер будут добывать его; и каждый из дворовых людей, от первого до последнего, положил у себя на сердце тайком Прокрасться в сад и высматривать из-за кустов и деревьев, что там будет делаться.
Целый день прошел в какой-то суматохе. Нетерпеливость и беспокойство ясно выказывались на лице и в поступках майора; капрал беспрестанно бродил то по двору, то по саду, то заглядывал в комнаты; жид, согнувшись и напустя пейсики себе на лицо (может быть, для того, чтоб на лице его не могли прочесть его мыслей), ровным и скорым шагом каждый час переходил то с мельницы на господский двор, то с господского двора на мельницу; Ридько суетился, чтобы придать себе больше важности в глазах своих товарищей, и не отвечал на лукавые двусмысленные их вопросы; хлопцы переглядывались между собою, перешептывались по углам, а остальная дворня любопытно присматривалась ко всему, что делалось, и вслушивалась во все, что было сказано. Одна Ганнуся ни о чем не знала и не примечала ничего: она, пожелав доброго утра отцу своему, после завтрака села за работу в своей комнате, которой окно было на проселочную дорогу к хутору Левчинского, задумалась о нем, печалилась, что он долго не выздоравливал; игла быстро вертелась в руках ее, работа, можно сказать, горела, часы летели, и милая девушка не приметила, как время пронеслось до обеда; тем больше не приметила она, что вокруг нее все было в каком-то суетливом волнении. Сердце молодой красавицы, в минуты уединенной задумчивости, создает в самом себе мир отдельный, мир фантазии: ему нет тогда дела до мира внешнего, вещественного.
Наступил вечер; когда стемнело на дворе, все дворовые люди Майоровы, начиная от хлопцев до ринки, или коровницы, Гапки, тихонько забрались в сад, залегли в разных местах, чтоб их не приметили, и, не смея переводить дух в своих засадах, украдкой оттуда выглядывали. Около одиннадцати часов ночи Ридько вбежал опрометью в комнату майора, где капрал и жид, чинно стоя по углам и не сводя глаз с господина, ожидали условленной вести. Майор вскочил с своего места, взял большую, тяжелую палку, которую капрал для него приготовил, и скорым шагом отправился в сад; за ним, прихрамывая, но с надлежащей вытяжкой, шел капрал; рядом с сим последним подбегал жид, припрыгивая и твердя вполголоса: «Зух Раббин, Каин, Абель!» Ридько заключал это ночное шествие, неся на плечах два большие порожние мешка. Майор приостановился, увидя перед собою, шагах в двадцати, что-то белое, свернувшееся в комок. Он осторожно занес палицу свою навзмашь, притая дух, подкрался к белому привидению — и в тот миг, когда жид громко вскрикнул: «Зух!», майор изо всей силы хлопнул… Пронзителъное, оглушающее «мяу!» раздалось по саду вслед за ударом — и белый комок, не рассыпаясь серебряными рублевиками, растянулся без жизни и движения. Домашняя челядь Майорова не утерпела и сбежалась отовсюду из засад своих, услыша столь необыкновенный крик; толстая, приземистая и плосколицая Гапка явилась туда из первых…
— Ох! горе мне бедной! Пан убил мою Малашку! — вскрикнула Гапка и взвыла таким голосом, каким мать плачет по своей дочери.
— Кой черт! Что ты мелешь, старая дура? — торопливо и сердито проговорил майор.
— Да, вам легко говорить! Пускай я мелю, пускай я старая дура; а бедную мою Малашку ухохлили: уж ее теперь ничем не оживишь! — выкрикивала Гапка и заголосила пуще прежнего.
— Да скажешь ли ты мне, — с нетерпением вскрикнул майор, схватя коровницу за плечо и стряхнув ее изо всей силы, — какую Малашку?
— Какую? вестимо, что мою Малашку!.. Кто теперь будет у меня ловить крыс, кто будет от них очищать ледник?..
— Провались ты, негодная дура, и с проклятою своею кошкой! — бранчивым голосом сказал майор и резко махнул рукою по воздуху.
— Ох! горе мне, бедной сироте! — навзрыд твердила Гапка, припала к земле, подняла убитую кошку и с вытьем понесла ее в свою хату.
Люди майоровы, каждый смеясь себе под нос, разбрелись по своим углам; явно зубоскалить никто из них не смел: все знали, что рука их пана тяжела и что гнев его, вспыхивая как порох, иногда и оставлял по себе такие же явные следы, как это губительное вещество. На сей раз, однако же, для гнева майорова довольно было и одной жертвы, т. е. кошки, которая жизнью поплатилась за свой неумышленный обман; Ридько, столь же неумышленная причина ее смерти, отделался одним страхом. Максим Кириллович скорее прежнего пошел в свою комнату, заперся в ней и наедине переваривал свою досаду, капрал, с горя от неудачи своего старого командира, к которому был он искренне привязан, побрел в свою каморку и принялся за вечернюю порцию; жид отправился в свой шинок, а Ридько, повеся нос, тихо поплелся на свой ночлег. Там, укутав голову, чтоб не слышать злых насмешек, которыми его осыпали товарищи, он шептал молитвы и поручал свою душу святым угодникам, считая все случившееся с ним бесовским наваждением.
На другой день майор поздно вышел из своей комнаты; на лице его было написано уныние, и на все вопросы Ганнуси об его здоровье отвечал он отрывисто и неохотно. Заметно было, что он боялся или стыдился напоминания о минувшей, ночи; усердный капрал прочел это в душе его и потому строго подтвердил хлопцам и всем дворовым людям не разглашать ничего о том, что было накануне, а более всего остерегаться, чтоб не промолвиться как-нибудь об этом пере их господином. Все знали, что пан и капрал шутить не любили, и тайна минувшей ночи замерла на болтливых языках домашней челяди. В скромности жида капрал и без того был. уверен, ибо Ицка Хопылевич был молчаливее рыбы, когда чувствовал, что на хранении тайны основывались для него корыстные виды.
Новое лицо развлекло задумчивость майора и даже развеселило его. Это был поручик Левчинский, выехавший в тот день впервые после болезни и поспешивший изъявить благодарность свою Максиму Кирилловичу и милой его дочери за оказанное ему участие. С ним приехал и Спирид Гордеевич, который во все время болезни Левчинского принимал о нем отеческие попечения и полюбил его как родного сына: это чувствование было ново для доброго старика, потому что сам он не имел детей и, похоронив за три года перед тем подругу преклонных своих лет, был совершенно одинок.
Ганнуся, услышав о приезде Левчинского, смутилась и не могла ни на что решиться. Сердце влекло ее навстречу долгожданному гостю; но природная стыдливость и привычная застенчивость малороссийской панны останавливали милую девушку в ее комнате. И здесь ее состояние было почти лихорадочное: то вдруг чувствовала она легкую дрожь, то жаркий румянец вспыхивал у нее в щеках и даже пробегал по челу, высокая грудь ее волновалась, глаза покрывались тонкою, теплою влагой… В таком состоянии борьбы провела она более получаса, пока отец не кликнул ее из другой комнаты. Тогда, собрав всю бодрость девического своего сердца, она вышла к гостям; но приближение и первый звук голоса ее избавителя снова вызвали ту же краску на ее лице и тот же легкий, электрический трепет по всему ее телу. Не скоро могла она прийти в себя и отвечать полусловами на приветствия и выражения благодарности, сказанные ей Левчинским, который, может быть, в душе своей был не более спокоен, хотя, привыкнув во время службы к светскому обращению, более умел владеть собою. Наконец, крупные слезы скатились с длинных черных ресниц Ганнуси, и она облегчила свое сердце тем, что высказала с своей стороны молодому поручику — правда, с крайним усилием и в несвязных словах — благодарность свою за спасение ей жизни.
Когда холодный порядок разговора несколько восстановился и Максим Кириллович завел с Левчинским речь о старых и новых служивых, о походах и битвах, тогда Ганнуся, тихо сидевшая в отдалении с сложенными руками, по обычаю малороссийских девиц, оправилась и начала дышать вольнее. Она украдкою начала уже всматриваться в лицо своего избавителя, замечала каждую его черту, каждое движение и часто, спустя голову, вылетавшими из уст ее вздохами нагревала прелестную грудь свою.
За обедом Левчинскому случайно пришлось сидеть подле Ганнуси. Спирид Гордеевич первый это заметил; и, понял ли сей сметливый старик зарождавшуюся в молодых людях взаимную любовь или просто хотел над ними пошутить по врожденной веселости малороссиян, он громко пожелал поручику с Анной Максимовной сидеть чаще вместе, как пара голубков. Эта малороссийская аллегория означала, что он желал их видеть четою молодых супругов. Глаза поручика заблистали каким-то новым блеском, когда он поднял их на старого своего друга, как будто бы с вопросом, сбыточное ли это желание, и тотчас опустились на стол. Стыдливая соседка его зарделась, как юная роза от первых, утренних лучей солнца, и казалось, искала глазами, нет ли какого пятнышка на ее тарелке, а старый майор поморщился и старался переменить разговор, по-видимому, не весьма для него приятный.