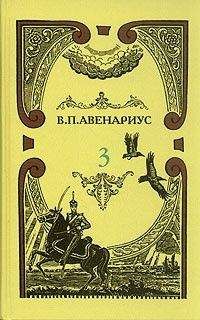— Ах, не уходи, не оставляй меня!
— Да я не уйду, я только за водой.
И, почесав теперь за ухом, он торопливо налил в стакан воды и воротился с ним к девушке. И в этот раз он рассчитал верно: едва сделала она два-три глотка, как утихла; несколько погодя приподнялась с полу, присела на стул и отерла широким рукавом слезы; затем, глубоко вздохнув, выпила с жадностью остаток воды и отдала стакан молодому человеку.
— Ну, наплакалась, — произнесла она, силясь улыбнуться. — Ты не взыскивай, милый мой, ведь я не Лотта… Да и за что мне сердиться на тебя? Разве ты виноват, что нашлась девушка лучше меня? Ты и не такой еще достоин.
— Добрая моя…
— Полно, не представляйся, я знаю, что я теперь тебе бельмо на глазу, что у тебя в эту минуту только одно на уме: как бы скорее отвязаться от меня.
— О, нет, Мари, ты ошибаешься…
— Не хитри хоть перед концом, разве я не вижу? Глаза влюбленной зорки. Но ты был прав, говоря, что так нам нельзя расстаться; разойдемся друзьями. Если я тебя чем обидела, если надоедала — прости великодушно, не поминай лихом.
— Милая, как же ты можешь думать… Я готов в эту минуту все сделать для тебя.
— Правда.
— Сущая.
— Так я имела бы к тебе просьбу… Ластов невольно нахмурился:
"Ах, черт возьми, ну, попросит отказаться от Наденьки?"
— Подари мне на память эту булавку.
Галстук поэта был зашпилен золотою, с эмалью, булавкой. Лицо его прояснилось, и с необыкновенной готовностью отцепил он булавку, так что повредил даже галстук.
— На, любезная Мари.
В это время за окнами послышался стук колес. Ластов встрепенулся:
— Дилижанс! Пора. Прощай, моя дорогая…
Она бросилась к нему на шею и стала осыпать его жгучими поцелуями. Потом тихо оттолкнула от себя.
— Ступай, тебя дожидаются. Да хранит тебя Господь.
Она упала в бессилии на стул.
Ластов схватил в одну руку чемодан, в другую — альпийскую палку, трость и плед и, наскоро поцеловав еще раз девушку, выбежал на лестницу.
Дилижанс действительно уже дожидался внизу, перед площадкою отеля; около него толпилось несколько Я'ских, пансионеров, в том числе Змеин, Брони, Наденька и мать последней. Бросив чемодан к остальной поклаже на империал дилижанса, Ластов взял под руку корпорната и отвел его в сторону:
— У меня, друг мой, есть к тебе небольшое поручение. Исполнишь?
— Вопрос! Само собою. В чем дело? Ластов достал свое послание к Наденьке.
— Как мы отъедем, так передай, пожалуйста, младшей Липецкой, да чтобы никто не видел.
— А, а! Хвалю. Но мне полюбопытствовать можно?
— Нет, и тебе нельзя. Мы отправляемся теперь на женевское озеро, а там в благословенный край,
Где вечный лавр и кипарис
По воле гордо разрослись.
Так если бы пришлось почему-либо писать, ты можешь адресовать в Неаполь.
— Да что ж это тебя так баснословно ехать приспичило? А! Понимаю:
Vor der Liebe ein Jiingling lief,
Glaubte, sie ware hinter ihm,
Doch sie sass ihm im Herzen tief.
От любви ли юноша бежал,
Думал, что злодейка позади,
А она засела глубоко в груди (нем.).
Напрасные старанья: не убежишь.
— Увидим! Ну, прощай.
Они поцеловались по-братски. Затем Ластов подошел к дамам. Наденька держалась конвульсивно за руку матери, как бы ища опоры. Последняя кровинка исчезла из цветущего лица ее. Когда Ластов подал ей на прощанье руку, то почувствовал, как пальцы ее, горячие и влажные, дрожали в его руке.
— Прощайте, Надежда Николаевна.
— Прощайте…
Более не сказал ни один из них. Но в глазах ее, устремленных на него как-то грустно-вопросительно, он прочел немой вопрос:
— Что же стихи? Ведь это нехорошо…
— А что карточка? — спросил он вслух. Наденька покачала отрицательно головой. Хотел он справиться, что значит это отрицание: неудачу в похищении карточки или нежелание дать ее? Но тут под дверьми дома появилась Мари. Ластов вспыхнул и, коротко раскланявшись с дамами, прыгнул в дилижанс.
— Adeux!
— Ade!
— Прощайте-с!
Лошади тронули, громоздкий экипаж загремел по мостовой.
При повороте на мостик через Аар Ластов еще раз выглянул из заднего окошка. Сквозь желтые столбы пыли, поднятые колесами, различил он в отдалении живую картину: группа пансионеров глядела с площадки перед отелем вслед отъезжающим; впереди стояли мать и дочь Липецкие и Мари. Вдруг Наденька бросилась на шею к молодой швейцарке, толпа обступила их… Экипаж повернул за угол.
Ластов откинулся назад и пожал с чувством руку сидевшему возле него другу. Тот с удивлением посмотрел на него.
— Что с тобой.
— Заварил я кашу…
Кому ж-то придется ее расхлебать!
Какая сладость иногда в грусти! Просто, хоть сахар вари.
— А по мне так она как есть полынная настойка: и горька, и шеломит.
— Так и ты того?..
Змеин хмуро отвернулся, но Ластов очень хорошо понял, что это значит:
— Да, и я того — дурак набитый!
Утро, как мы уже заметили, было высшего достоинства: с голубым небом и солнечным блеском. Но доброкачественность погоды в минуту разлуки едва ли еще не усиливает тоски. Все милое, покидаемое нами, представляется в выгоднейшем свете, и тем больнее нам оставить его. Неподвижно, безмолвно стояли наши два приятеля на корме парохода, уносившего их от унтерзеенской пристани к Туну. Все далее уходили знакомые берега, из-за темных гребней которых посылали путникам последний привет свой белоснежные главы Юнграу, Мёнха, Эйгера… Одна за другой исчезали светлые вершины. Так гаснут яркие звезды волшебной летней ночи, так потухают безвозвратно звезды счастья…
— Прости, прости, мой край родной!
Уж скрылся ты в волнах… —
— пел тихий голос на корме судна.
— Kellner! — громко раздался там же другой голос. — Zwei Flaschen Liebfrauenmilch[118]!
Недели две спустя Ластов, прибыв с Змеиным в Неаполь, нашел там следующее письмо на свое имя.
"Интерлакен, 24 июля.
Amice carissime[119]!
Я известился от Бронна (подлец он, отъявленный… но об нем речь впереди), что ты намерен пробыть некоторое время в Неаполе, поэтому письмо мое должно застать тебя.
Прежде всего спешу уведомить тебя, что я жених… Вижу, как ты бледнеешь, как письмо дрожит в руках твоих; но не пугайся, друг мой: жених я не Наденьки, а Мирочки. Сам не знаю, как это сделалось. Не думал, не гадал, а вдруг оказался женихом. Et d'une maniere si commune[120]! Сначала даже досадно было. Но теперь свыкся со своей долей, в особенности, когда узнал, что беру приданого до 20 тысяч.
Случилось оно так. Последние дни мы с Мирочкой были все больше одни: то я отыскивал ее, то она меня. Entre quatre yeux[121] она позволяла мне даже целовать ей ручку, а ручка у нее — sapristi! маленькая, полненькая, с ямочками; и — что очень важно — sans deuil[122], так вот и просится на поцелуи! Да что ручка! Если бы ты видел ее ножку: coude-pied[123]… Но это — статья, тебя не касающаяся.
Итак, сидим мы с нею в беседке и прочитываем tour a tour "La Gaillarde" Поль де Кока (премиленький романчик!), один читает — другая слушает, другая читает — один слушает и наоборот, в обратном отношении квадратов расстояний. Тут замечает она на руке моей перстень.
— Ах, говорит, какой хорошенький!
И давай снимать его. А ручонки у нее, как выше объяснено, nec plus ultra[124], и как взялась она ими, мягкими, теплыми, за мою, так просто не знаю, что со мною сделалось! Роман ли Поль де Кока растрогал или что другое — только словно электрический ток (а может быть, и гальванический, кто его знает) пробежал по всем моим суставам; я не выдержал, обнял милашку и влепил ей наисмачнейшую безешку. Она не протестовала; но, делала вид, что не замечает, продолжала снимать у меня перстень и, сняв его, стала примерять его на все пальцы. Понятно, что он был ей велик. Тогда она продела в него два пальца, и смеется:
— Вот видите ли, и мне в пору! А меня точно бес какой толкнул:
— А что, говорю, если бы я попросил вас оставить его себе?
Она опустила глазки.
— Переговорите с тетенькой, она моя опекунша… Я чуть не провалился сквозь землю, в Америку.
Imbecile[125]! Сам того не зная, сделал предложение. Но que faire[126]? Благородному человеку нельзя отступиться от данного раз слова, сконфузить ее тоже не хотелось — скрепя сердце, отправился я к опекунше, ну и, само собою, получил полное согласие…
Но обратимся к другой статье, тебя, без сомнения, более интересующей. Я не присутствовал при вашем отъезде (вольно же ехать в такую неслыханную рань!), но слухом земля полнится: рассказывали мне с разных сторон о трогательной прощальной сцене, как вы с Наденькой, пожимая руг ругу в последний раз руку, чуть не расплакались, как потом ты пересилил себя, оторвался от нее и бросился в дилижанс, как с нею сделалось дурно, и она чуть не растянулась перед всей честной компанией, как, наконец, мать потащила ее, рабу Божию, в свои внутренние апартаменты и задала ей там капитальную головомойку. Все кончилось бы еще благополучно, если б не твоя стихомания. Накуролесила твоя Муза! Нечего сказать. Ты обещался, говорят, написать Наденьке стишки и отдал их при отъезде твоему другу-копорнату, а тот, испугавшись эффекта, произведенного уже твоим отъездом, передал их матери. Mon Dieu! Что тут за драма разыгралась! Мы с Мирочкой подслушали все из соседней комнаты.