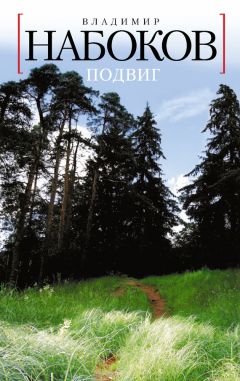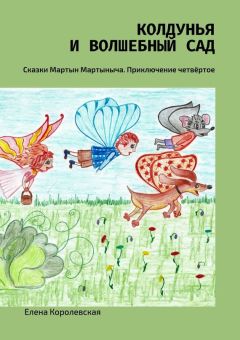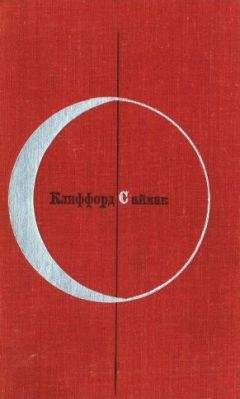Тот сел боком к столу, поощрительно глядя, как Мартын хлебает суп. «Я вам говорил, что, по некоторым сведениям, они-бы, они-бы, они безвыездно живут в усадьбе, – удивительно…»
(«Неужели их не трогают? – подумал Мартын. – Неужели все осталось по-прежнему, – эти, например, сушеные маленькие груши на крыше веранды?»)
«Могикане», – задумчиво сказал Данилевский.
В зальце было пустовато. Плюшевые диванчики, печки с коленчатой трубой, газеты на древках.
«Все это изменится к лучшему. Знаете, я бы бабами, большими бабами, хотел расписать стены, если бы это не было так грустно. Одежды – прямо пожары, но бледные лица с глазами лошадей. Так у меня выходит, по крайней мере. Яп, яп, пробовал. Или можно тучи, а внизу, а внизу – опушку. Помещение мы расширим, тут, тут и там все снимем, я вчера вызвал мастера, но он почему-то не пришел».
«Много бывает народу?» – спросил Мартын.
«Обыкновенно – да. Сейчас не обеденный час, не судите. Но вообще… И хорошо представлена литературная быратья. Ракитин, например, ну, знаете, журналист, всегда в гетрах, большой проникёр… А на днях, бу, а на днях, бу, Сережа Бубнов, буй, буй, – неистовствовал, бил посуду, у него запой, любовное несчастье, нехорошо, – а ведь это же жениховством папахло».
Данилевский вздохнул, постукал пальцами по столу и, медленно встав, ушел на кухню. Он опять появился, когда Мартын снимал свою шляпу с вешалки. «Завтра шашлык, – сказал Данилевский, – ждем вас», – и у Мартына мелькнуло желание сказать что-нибудь очень хорошее этому милому, грустному, так мелодично заикающемуся человеку; но что, собственно, можно было сказать?
Пройдя через мощеный двор, где посредине, на газоне, стояла безносая статуя и росло несколько туй, он толкнул знакомую дверь, поднялся по лестнице, отзывавшей капустой и кошками, и позвонил. Ему открыл молодой немец, один из жильцов, и, предупредив, что Бубнов болен, постучал на ходу к нему в дверь. Голос Бубнова хрипло и уныло завопил: «Херайн».
Бубнов сидел на постели, в черных штанах, в открытой сорочке, лицо у него было опухшее и небритое, с багровыми веками. На постели, на полу, на столе, где мутной желтизной сквозил стакан чаю, валялись листы бумаги. Оказалось, что Бубнов одновременно заканчивает новеллу и пытается составить по-немецки внушительное письмо Финансовому Ведомству, требующему от него уплаты налога. Он не был пьян, однако и трезвым его тоже нельзя было назвать. Жажда, по-видимому, у него прошла, но все в нем было искривлено, расшатано ураганом, мысли блуждали, отыскивали свои жилища, и находили развалины. Не удивившись вовсе появлению Мартына, которого он не видел с весны, Бубнов принялся разносить какого-то критика, – словно Мартын был ответственен за статью этого критика. «Травят меня», – злобно говорил Бубнов, и лицо его с глубокими глазными впадинами было при этом довольно жутко. Он был склонен считать, что всякая бранная рецензия на его книги подсказана побочными причинами – завистью, личной неприязнью или желанием отомстить за обиду. И теперь, слушая его довольно бессвязную речь о литературных интригах, Мартын дивился, что человек может так болеть чужим мнением, и его подмывало сказать Бубнову, что его рассказ о Зоорландии – неудачный, фальшивый, никуда не годный рассказ. Когда же Бубнов, без всякой связи с предыдущим, вдруг заговорил о сердечной своей беде, Мартын проклял дурное любопытство, заставившее его сюда прийти. «Имени ее не назову, не спрашивай, – говорил Бубнов, переходивший на „ты“ с актерской легкостью, – но помни, из-за нее еще не один погибнет. А как я любил ее… Как я был счастлив. Огромное чувство, когда, знаешь, гремят ангелы. Но она испугалась моих горних высот…»
Мартын посидел еще немного, почувствовал наплыв невозможной тоски и молча поднялся. Бубнов, всхлипывая, проводил его до двери. Через несколько дней (уже в Латвии) Мартын нашел в русской газете новую бубновскую «новеллу», на сей раз превосходную, и там у героя-немца был Мартынов галстук, бледно-серый в розовую полоску, который Бубнов, казавшийся столь поглощенным горем, украл, как очень ловкий вор, одной рукой вынимающий у человека часы, пока другой вытирает слезы.
Зайдя в писчебумажную лавку, Мартын купил полдюжины открыток и наполнил свое обмелевшее автоматическое перо, после чего направился в гостиницу Дарвина, решив там прождать до последнего возможного срока и уже прямо оттуда ехать на вокзал. Было около пяти, небо затуманилось – белесое, невеселое. Глуше, чем утром, звучали автомобильные рожки. Проехал открытый фургон, запряженный парой тощих лошадей, и там громоздилась целая обстановка – кушетка, комод, море в золоченой раме и еще много всякой другой грустной рухляди. Через пятнистый от сырости асфальт прошла женщина в трауре, катя колясочку, в которой сидел синеглазый внимательный младенец, и, докатив колясочку до панели, она нажала и вздыбила ее. Пробежал пудель, догоняя черную левретку; та боязливо оглянулась, дрожа и подняв согнутую переднюю лапу. «Что это, в самом деле, – подумал Мартын. – Что мне до всего этого? Ведь я же вернусь. Я должен вернуться». Он вошел в холл гостиницы. Оказалось, что Дарвина еще нет.
Тогда он выбрал в холле удобное кожаное кресло и, отвинтив колпачок с пера, принялся писать матери. Пространство на открытке было ограниченное, почерк у него был крупный, так что вместилось немного. «Все благополучно, – писал он, сильно нажимая на перо. – Остановился на старом месте, адресуй туда же. Надеюсь, дядин флюс лучше. Дарвина я еще не видал. Зилановы передают привет. Напишу опять не раньше недели, так как ровно не о чем. Many kisses»[6]. Все это он перечел дважды, и почему-то сжалось сердце, и прошел по спине холод. «Ну, пожалуйста, без глупостей», – сказал себе Мартын и, опять сильно нажимая, написал майорше с просьбой сохранять для него письма. Опустив открытки, он вернулся, откинулся в кресле и стал ждать, поглядывая на стенные часы. Прошло четверть часа, двадцать минут, двадцать пять. По лестнице поднялись две мулатки с необыкновенно худыми ногами. Вдруг он услышал за спиной мощное дыхание, которое тотчас узнал. Он вскочил, и Дарвин огрел его по плечу, издавая гортанные восклицания. «Негодяй, негодяй, – радостно забормотал Мартын, – я тебя ищу с утра».
Дарвин как будто слегка пополнел, волосы поредели, он отпустил усы – светлые, подстриженные, вроде новой зубной щетки. И он и Мартын были почему-то смущены, и не знали, о чем говорить, и все трепали друг друга, посмеиваясь и урча. «Что же ты будешь пить, – спросил Дарвин, когда они вошли в тесный, но нарядный номер, – виски и соду? коктэйль? или простой чай?» – «Все равно, все равно, что хочешь», – ответил Мартын и взял со столика большой снимок в дорогой раме. «Она», – лаконично заметил Дарвин. Это был портрет молодой женщины с диадемой на лбу. Сросшиеся на переносице брови, светлые глаза и лебединая шея, – все было очень отчетливо и властно. «Ее зовут Ивлин, она, знаешь, недурно поет, я уверен, что ты бы очень с ней подружился», – и, отобрав портрет, Дарвин еще раз мечтательно на него посмотрел, прежде чем поставить на место. «Ну-с, – сказал он, повалившись на диван и сразу вытянув ноги, – какие новости?»
Вошел слуга с коктэйлями. Мартын без удовольствия глотнул пряную жидкость и вкратце рассказал, как он прожил эти два года. Его удивило, что, как только он замолк, Дарвин заговорил о себе, подробно и самодовольно, чего прежде никогда не случалось. Как странно было слышать из его ленивых целомудренных уст речь об успехах, о заработках, о прекрасных надеждах на будущее, – и оказывается, писал он теперь не прежние очаровательные вещи о пиявках и закатах, а статьи по экономическим и государственным вопросам, и особенно его интересовал какой-то мораториум. Когда же Мартын, во время неожиданной паузы, напомнил ему о давнем, смешном, кембриджском, – о горящей колеснице, о Розе, о драке, – Дарвин равнодушно проговорил: «Да, хорошие были времена», – и Мартын с ужасом отметил, что воспоминание у Дарвина умерло или отсутствует, и осталась одна выцветшая вывеска.
«А что поделывает Вадим?» – сонно спросил Дарвин.
«Вадим в Брюсселе, – ответил Мартын, – кажется, служит. А вот Зилановы тут, я часто видаюсь с Соней. Она все еще не вышла замуж».
Дарвин выпустил огромный клуб дыма. «Привет ей, привет, – сказал он. – А вот ты… Да, жалко, что ты все как-то треплешься. Вот я тебя завтра кое с кем познакомлю, я уверен, что тебе понравится газетное дело».
Мартын кашлянул. Настало время заговорить о самом важном, – о чем он еще недавно так мечтал с Дарвином поговорить.
«Спасибо, – сказал он, – но это невозможно, – я через час уезжаю из Берлина».
Дарвин слегка привстал: «Вот-те на. Куда же?»
«Сейчас узнаешь. Сейчас я тебе расскажу вещи, которых не знает никто. Вот уже несколько лет, – да, – несколько лет, – но это неважно…»
Он запнулся. Дарвин вздохнул и сказал: «Я уже понял. Буду шафером».