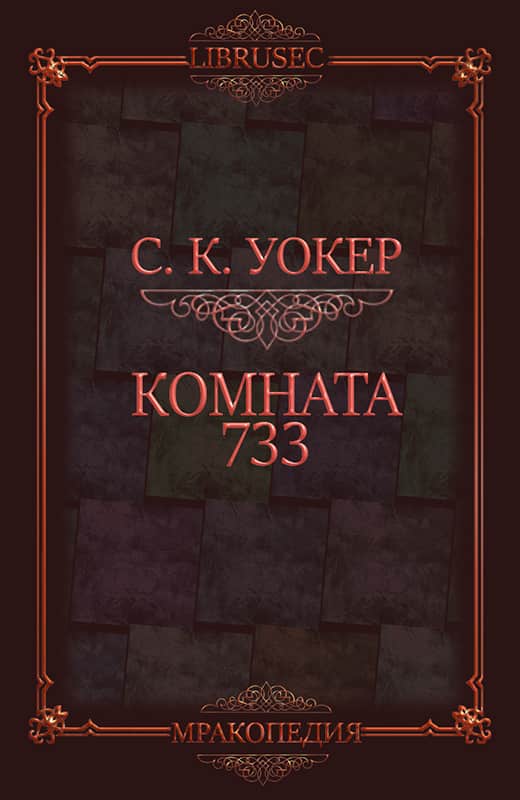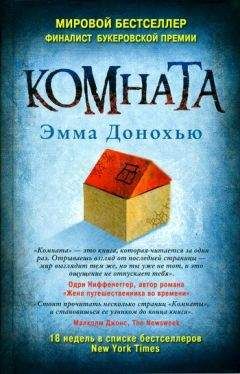одним из таких средств; по крайней мере, он понял это, когда летом его охватила ревность и он не мог вынести, чтобы его женщины имели хоть какую-то связь друг с другом. Всё это входило в представление Вильхельма о самом себе и о невероятно запутанных любовных связях, но внезапно он остался только с Милле, никем не желанной, и эта Флоренс Найтингейл с темными добродушными глазами мечтала о нем для себя одной — господь всемогущий, как же это скучно, — и теперь, когда у Лизе отношения с красивым молодым человеком (даже перестав ее любить, Вильхельм не мог в это поверить), в нем проснулся прежний рыцарь-разбойник, но на этот раз добыча не достанется легко.
Даже если бы тогда Лизе (как я) знала обо всем этом, совсем не обязательно, что ее планы изменились бы. В первые дни отношений с Вильхельмом она была счастлива так же, как сейчас — со смертью, и упускать это чувство не намеревалась. Она сидела за кружкой чая с Томом и его первой девушкой. Большие голубые глаза, копна светлых волос над высоким выпуклым детским лбом. Сходство бросалось в глаза, так что молчать о нем было невозможно. «Мама, она похожа на тебя, — произнес Том. — На ту тебя, когда вы с отцом жили счастливо». И это правда было так. Лизе достала фотографии из Химмельбьерга, и девочка заметила, что Том больше похож на отца. Лизе согласилась и неожиданно принялась рассказывать, как Вильхельм когда-то купил автомобиль за двадцать пять тысяч крон. Незадолго до их переезда в Копенгаген. Он только что получил водительские права и, когда машину доставили и она стояла в гараже, то и дело порывался зайти и проверить, всё ли в порядке. И точно: на приборной панели не хватало часов. Он тут же позвонил продавцу, который объяснил, что произошла ошибка. И Вильхельм почти застенчиво (это было его бременем и удачей одновременно, что она помнила такие вещи): «Понимаешь ли, Лизе, мне раньше никогда не доводилось владеть чем-то настолько новым, большим, дорогим и блестящим! Трудно поверить, что это правда, точнее, что я так далеко пошел».
Лизе поделилась с внимательно слушавшей ее девочкой, каким трогательным ей показалось его признание — ведь она даже не осознавала, как далеко пошла сама, и ее не покидало ощущение, что ее снова разоблачат, как простую бедную работницу, пробравшуюся в круги, куда ей не следовало соваться. В ответ девочка рассказала, как сильно ее мама всегда восхищалась Лизе, а теперь и она восхищается тоже. Лизе залилась смехом и сказала, что еще немного, и маленькие дети будут говорить ей, как горячо их бабушки любили ее стихи, а внукам и правнукам вслух читали книги о Киме. Это был забавный день, и ему не повториться — чудесное и забавное заключалось как раз в том, что всё происходило в последний раз.
Однажды вечером зазвонил телефон наверху — там Лизе забыла его отключить. Это оказалась старая жуткая карга сверху.
— Курта можете не искать, — заявила она, и в хриплом голосе прозвучали ликующие ноты. — Он у меня и останется здесь.
Старуха положила трубку. Это только добавило боли, несильной, но достаточной, чтобы приблизить момент. В комнате Вильхельма больше не было ничего живого, а скоро не станет и самой комнаты. Лизе больше не за кого держаться, если даже Курта Неудавшегося она лишилась. Может, что-то и получилось бы, если бы Том не привел домой Лене. Вероятно, он уже некоторое время обсуждал это с Куртом. Курт же обречен быть вечным третьим в любых отношениях, за исключением интрижки со своей макабрической любовницей сверху. И так мы приближались к концу, как наигравшиеся дети, что устало возвращаются домой в наступившей темноте. Вильхельм решил дождаться остальных статей с воспоминаниями, которые уже, очевидно, написаны, ведь Лизе до абсурдности добросовестна. Он ждал их у Милле, в просторной гостиной с низкой мебелью и тусклым освещением, но беспрестанно рассказывал о годах, проведенных с Лизе, — о счастье, безумии, об опасном пристрастии к нездоровым удовольствиям, заранее тревожась из-за воскресного номера конкурирующего издания, и злился, что Прекрасноволосый наверняка купил эти материалы по дешевке, потому что Лизе не знала своей настоящей цены. Вильхельм признался Милле, что с удовольствием опубликовал бы эти воспоминания у себя, но это невозможно: он ушел от нее так, что теперь гордость не позволяет ей с ним связаться.
Тогда Милле — она вязала крючком палантин для матери (Вильхельма раздражало, что ее руки никогда не знали покоя) — спросила, позволяет ли его гордость позвонить Лизе? Он признался: не позволяет, и здесь была доля правды. Он всегда боялся отказа, боялся до такой степени, что никогда в жизни никого ни о чем не просил, даже о малейшем одолжении. Я имею в виду, никогда не просил мужчин, потому что от женщин он ожидал (как, например, от своей секретарши), что они сами, добровольно упростят его жизнь во многих практических отношениях. Хотя это и смехотворно (а смехотворное и жалкое часто находятся рядом), он бы ни за что не оставил Лизе, если бы она «держала всё в своих руках»: следила, чтобы рубашки и полотенца лежали где положено, и ему не приходилось, опаздывая и проклиная всё на свете, метаться в их поисках; готовила праздничные блюда и умела пройтись по большой заброшенной квартире женской рукой, превратив ее в уютный дом, а не хлев, где спят и плохо едят.
Чисто теоретически он вполне симпатизировал «Движению красных чулок» [13], которых постепенно поддержали все женщины редакции, но небо уберегло его от необходимости жить с ними под одной крышей. Он уже начал замечать, что Милле изменилась. В гостиной пахло цветочной вазой, в которой забыли сменить воду; книги, которые он брал с полки, накапливались на ночном столике: Милле больше не убирала их на место. Теперь, когда он среди ночи вваливался домой с Джоном или главным редактором, ее было не добудиться, и им приходилось самим рыскать по кухне в поисках еды и выпивки. К тому же он так долго жил своими запутанными страстями, что простота и близость жизни всего с одной женщиной больше не привлекала его. Вильхельм Верный (безо всякой иронии) намеревался вернуться к своей женушке и всего лишь выгадывал подходящий момент. И спасительница Милле, которая хорошо знала о несчастливости Лизе, намеревалась отдать ее Вильхельма назад и делала свое дело — тихо и порядочно. Правда, было бесповоротно поздно: Лизе — художница, и она готовится явить величайшее произведение всей своей жизни, паря между небом и землей, как звезда, висящая на серебряной нити…