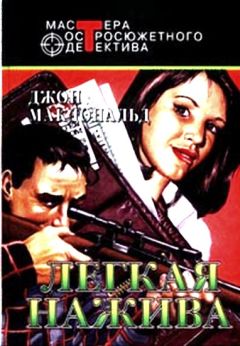Хозяиномъ ресторана являлся тотъ самый художникъ Данилевскiй, который бывалъ въ Адреизe, - небольшого роста, пожилой уже человeкъ, въ стоячемъ воротникe, съ румянымъ дeтскимъ лицомъ и русой бородавкой подъ глазомъ. Онъ подошелъ къ столику Мартына и застeнчиво спросилъ: "Бабарщокъ вкусный?" (онъ испытывалъ странное тяготeнiе какъ разъ къ тeмъ звукамъ, которые ему трудно давались). "Очень", - отвeтилъ Мартынъ и, - какъ всегда, съ чувствомъ щемящей нeжности, - увидeлъ Данилевскаго на фонe крымской ночи.
Тотъ сeлъ бокомъ къ столу, поощрительно глядя, какъ Мартынъ хлебаетъ супъ. "Я вамъ говорилъ, что по нeкоторымъ свeдeнiямъ они-бы, они-бы, они безвыeздно живутъ въ усадьбe, - удивительно..." {221}
("Неужели ихъ не трогаютъ? - подумалъ Мартынъ. - Неужели все осталось попрежнему, - эти, напримeръ, сушеныя маленькiя груши на крышe веранды?").
"Могикане", - задумчиво сказалъ Данилевскiй.
Въ зальцe было пустовато. Плюшевые диванчики, печка съ колeнчатой трубой, газеты на древкахъ.
"Все это измeнится къ лучшему. Знаете, я-бы бабами, большими бабами, хотeлъ расписать стeны, если-бы это не было такъ грустно. Одежды - прямо пожары, но блeдныя лица съ глазами лошадей. Такъ у меня выходитъ, по крайней мeрe. Япъ, япъ, пробовалъ. Или можно тута, а внизу, а внизу - опушку. Помeщенiе мы расширимъ, тутъ, тутъ и тамъ все снимемъ, я вчера вызвалъ мастера, но онъ почему-то не пришелъ".
"Много бываетъ народу?" - спросилъ Мартынъ.
"Обыкновенно - да. Сейчасъ не обeденный часъ, не судите. Но вообще... И хорошо представлена литературная быратья. Ракитинъ, напримeръ, ну, знаете, журналистъ, всегда въ гетрахъ, большой проникгръ... А на дняхъ, бу, а на-дняхъ, бу, Сережа Бубновъ, буй, буй, - неистовствовалъ, билъ посуду, у него запой, любовное несчастье, нехорошо, - а вeдь это же жениховствомъ папахло".
Данилевскiй вздохнулъ, постукалъ пальцами по столу и, медленно вставъ, ушелъ на кухню. Онъ опять появился, когда Мартынъ снималъ свою шляпу съ вeшалки. "Завтра шашлыкъ, - сказалъ Данилевскiй, - ждемъ васъ, - и у Мартына мелькнуло желанiе сказать что-нибудь очень хорошее этому милому, грустному, такъ мелодично заикающемуся человeку; но что, собственно, можно было сказать? {222}
XLIX.
Пройдя черезъ мощеный дворъ, гдe посрединe, на газонe, стояла безносая статуя и росло нeсколько туй, онъ толкнулъ знакомую дверь, поднялся по лeстницe, отзывавшей капустой и кошками, и позвонилъ. Ему открылъ молодой нeмецъ, одинъ изъ жильцовъ, и, предупредивъ, что Бубновъ боленъ, постучалъ на ходу къ нему въ дверь. Голосъ Бубнова хрипло и уныло завопилъ: "Херайнъ".
Бубновъ сидeлъ на постели, въ черныхъ штанахъ, въ открытой сорочкe, лицо у него было опухшее и небритое, съ багровыми вeками. На постели, на полу, на столe, гдe мутной желтизной сквозилъ стаканъ чаю, валялись листы бумаги. Оказалось, что Бубновъ одновременно заканчиваетъ новеллу и пытается составить по-нeмецки внушительное письмо Финансовому Вeдомству, требующему отъ него уплаты налога. Онъ не былъ пьянъ, однако и трезвымъ его тоже нельзя было назвать. Жажда повидимому у него прошла, но все въ немъ было искривлено, расшатано ураганомъ, мысли блуждали, отыскивали свои жилища, и находили развалины. Не удивившись вовсе появленiю Мартына, котораго онъ не видeлъ съ весны, Бубновъ принялся разносить какого-то критика, - словно Мартынъ былъ отвeтствененъ за статью этого критика. "Травятъ меня", злобно говорилъ Бубновъ, и лицо его съ глубокими глазными впадинами было при этомъ довольно жутко. Онъ былъ склоненъ считать, что всякая бранная рецензiя на {223} его книги подсказана побочными причинами, - завистью, личной непрiязнью или желанiемъ отомстить за обиду. И теперь, слушая его довольно безсвязную рeчь о литературныхъ интригахъ, Мартынъ дивился, что человeкъ можетъ такъ болeть чужимъ мнeнiемъ, и его подмывало сказать Бубнову, что его разсказъ о Зоорландiи - неудачный, фальшивый, никуда негодный разсказъ. Когда же Бубновъ, безъ всякой связи съ предыдущимъ, вдругъ заговорилъ о сердечной своей бeдe, Мартынъ проклялъ дурное любопытство, заставившее его сюда придти. "Имени ея не назову, не спрашивай, - говорилъ Бубновъ, переходившiй на ты съ актерской легкостью, - но помни, изъ-за нея еще не одинъ погибнетъ. А какъ я любилъ ее... Какъ я былъ счастливъ. Огромное чувство, когда, знаешь, гремятъ ангелы. Но она испугалась моихъ горнихъ высотъ..."
Мартынъ посидeлъ еще немного, почувствовалъ наплывъ невозможной тоски и молча поднялся. Бубновъ, всхлипывая, проводилъ его до двери. Черезъ нeсколько дней (уже въ Латвiи) Мартынъ нашелъ въ русской газетe новую бубновскую "новеллу", на сей разъ превосходную, и тамъ у героя-нeмца былъ Мартыновъ галстукъ, блeдно-сeрый въ розовую полоску, который Бубновъ, казавшiйся столь поглощеннымъ горемъ, укралъ, какъ очень ловкiй воръ, одной рукой вынимающiй у человeка часы, пока другою вытираетъ слезы.
Зайдя въ писчебумажную лавку, Мартынъ купилъ полдюжины открытокъ и наполнилъ свое обмелeвшее автоматическое перо, послe чего направился въ гостиницу Дарвина, рeшивъ тамъ прождать до послeдняго возможнаго срока, и уже прямо оттуда eхать на вокзалъ. Было {224} около пяти, небо затуманилось, - бeлесое, невеселое. Глуше, чeмъ утромъ, звучали автомобильные рожки. Проeхалъ открытый фургонъ, запряженный парой тощихъ лошадей, и тамъ громоздилась цeлая обстановка, - кушетка, комодъ, море въ золоченой рамe и еще много всякой другой грустной рухляди. Черезъ пятнистый отъ сырости асфальтъ прошла женщина въ траурe, катя колясочку, въ которой сидeлъ синеглазый внимательный младенецъ и, докативъ колясочку до панели, она нажала и вздыбила ее. Пробeжалъ пудель, догоняя черную левретку; та боязливо оглянулась, дрожа и поднявъ согнутую переднюю лапу. "Что это въ самомъ дeлe, - подумалъ Мартынъ. - Что мнe до всего этого? Вeдь я же вернусь. Я долженъ вернуться". Онъ вошелъ въ холль гостиницы. Оказалось, что Дарвина еще нeтъ.
Тогда онъ выбралъ въ холлe удобное кожаное кресло и, отвинтивъ колпачекъ съ пера, принялся писать матери. Пространство на открыткe было ограниченное, почеркъ у него былъ крупный, такъ что вмeстилось немного. "Все благополучно, - писалъ онъ, сильно нажимая на перо. - Остановился на старомъ мeстe, адресуй туда же. Надeюсь, дядинъ флюсъ лучше. Дарвина я еще не видалъ. Зилановы передаютъ привeтъ. Напишу опять не раньше недeли, такъ какъ ровно не о чемъ. Many kisses". Все это онъ перечелъ дважды, и почему то сжалось сердце, и прошелъ по спинe холодъ. "Ну, пожалуйста, безъ глупостей, - сказалъ себe Мартынъ и, опять сильно нажимая, написалъ маiоршe съ просьбой сохранять для него письма. Опустивъ открытки, онъ вернулся, откинулся въ креслe и сталъ ждать, поглядывая на стeнные часы. Прошло четверть {225} часа, двадцать минуть, двадцать пять. По лeстницe поднялись двe мулатки съ необыкновенно худыми ногами. Вдругъ онъ услышалъ за спиной мощное дыханiе, которое тотчасъ узналъ. Онъ вскочилъ, и Дарвинъ огрeлъ его по плечу, издавая гортанныя восклицанiя. "Негодяй, негодяй, - радостно забормоталъ Мартынъ, - я тебя ищу съ утра".
L.
Дарвинъ какъ будто слегка пополнeлъ, волосы порeдeли, онъ отпустилъ усы, - свeтлые, подстриженные, вродe новой зубной щетки. И онъ и Мартынъ были почему-то смущены, и не знали, о чемъ говорить, и все трепали другъ друга, посмeиваясь и урча. "Что же ты будешь пить, - спросилъ Дарвинъ, когда они вошли въ тeсный, но нарядный номеръ, - виски и соду? коктэйль? или просто чай?" "Все равно, все равно, что хочешь", - отвeтилъ Мартынъ и взялъ со столика большой снимокъ въ дорогой рамe. "Она", - лаконично замeтилъ Дарвинъ. Это былъ портретъ молодой женщины съ дiадемой на лбу. Сросшiяся на переносицe брови, свeтлые глаза и лебединая шея, - все было очень отчетливо и властно. "Ее зовутъ Ивлинъ, она, знаешь, недурно поетъ, я увeренъ, что ты бы очень съ ней подружился", - и, отобравъ портретъ, Дарвинъ еще разъ мечтательно на него посмотрeлъ, прежде, чeмъ поставить на мeсто. "Ну-съ, - сказалъ онъ, повалившись на диванъ и сразу вытянувъ ноги, - какiя новости?"
Вошелъ слуга съ коктэйлями. Мартынъ безъ удовольствiя {226} глотнулъ пряную жидкость и вкратцe разсказалъ, какъ онъ прожилъ эти два года. Его удивило, что, какъ только онъ замолкъ, Дарвинъ заговорилъ о себe, подробно и самодовольно, чего прежде никогда не случалось. Какъ странно было слышать изъ его лeнивыхъ цeломудренныхъ устъ рeчъ объ успeхахъ, о заработкахъ, о прекрасныхъ надеждахъ на будущее, - и оказывается писалъ онъ теперь не прежнiя очаровательныя вещи о пiявкахъ и закатахъ, а статьи по экономическимъ и государственнымъ вопросамъ, и особенно его интересовалъ какой-то мораторiумъ. Когда же Мартынъ, во время неожиданной паузы, напомнилъ ему о давнемъ, смeшномъ, кембриджскомъ, - о горящей колесницe, о Розe, о дракe, - Дарвинъ равнодушно проговорилъ: "Да, хорошiя были времена", - и Мартынъ съ ужасомъ отмeтилъ, что воспоминанiе у Дарвина умерло или отсутствуетъ, и осталась одна выцвeтшая вывeска.
"А что подeлываетъ Вадимъ?" - сонно спросилъ Дарвинъ.
"Вадимъ въ Брюсселe, - отвeтилъ Мартынъ, - кажется, служитъ. А вотъ Зилановы тутъ, я часто видаюсь съ Соней. Она все еще не вышла замужъ".