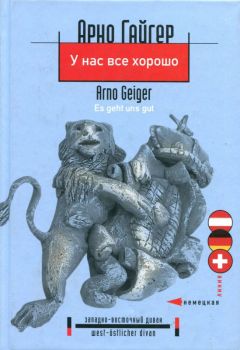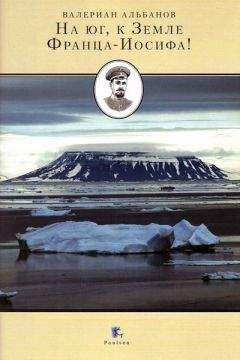А на дворе заходило солнце, гасли постепенно небеса, на которые покойный Тихон смотрел со своего порога в продолжение девяноста лет, и над церковью все так же летали стрижи.
* * *
Уже погасла заря и начали в небе зажигаться ранние звезды, а никто еще не спал. Приходи-ли с дальних слобод проститься с Тихоном и сначала заглядывали с улицы в маленькое окошеч-ко над земляной завалинкой, на которой вечерами подолгу сиживал Тихон, провожая глазами солнце.
В избе виднелись на столе белые покрывала смерти, кротко мерцали свечи, и Тихон лежал, строгий и мягкий, в величавом спокойствии. И слышались священные слова, которые читал тихий, как будто ласковый голос Степана.
Все долго сидели молча. Небеса гасли все больше, и теплый летний сумрак спускался на землю. Слышнее доносились вечерние затихающие звуки по заре, виднее и ярче горели в избе около Тихона свечи.
- Вот и помер... - сказал кто-то, вздохнув.
Все долго молчали.
- Так и не дожил дедушка Тихон ни до хороших мест, ни до вольной земли, - сказал Фома Короткий.
- Где родился, там и помер... За всю жизнь отсюда никуда не уходил.
Вышла хлопотавшая все время в избе старушка Аксинья и, прижимая уголок черненького платочка к старческим глазам, заплакала о том, что не померла вместе со своим стариком, а осталась после него жить, что, видно, ее земля не принимает и господь-батюшка видеть перед лицом своим душу ее не хочет.
- Да помрешь, бог даст, - говорил, утешая ее, кровельщик. - Чужого веку не заживешь, а что тебе положено, то и отбудешь. Так-то...
И начал набивать трубочку, сидя около Аксиньи на бревне.
- По крайности вот приготовила его, на могилку походишь, посмотришь за ней, помянешь, когда полагается, а что ж хорошего, кабы вместе-то померли?
- А за моей могилкой кто посмотрит? - говорила, плача, старушка.
- Ну, я посмотрю... - сказал кровельщик. - Смерть уж такое дело... все туда пойдем.
И он стал смотреть вдаль, насасывая трубочку, придавив огонь в ней большим пальцем.
Голоса звучали тихо, точно боялись нарушить тишину около места вечного упокоения старичка Тихона.
Ночь уже спускалась на землю. Над селом всходил из-за конопляников красный месяц, а народ все еще сидел перед избой. Потом стали расходиться. Оставались только старушки на всю ночь при покойнике да Степан, читавший псалтирь.
- Убрался дедушка Тихон, к чему бы это?.. - сказал кто-то в раздумье, уходя.
Полный месяц поднялся уже высоко над церковью. Деревья около изб стояли неподвижно, бросая от себя черную тень на дорогу. И в воздухе было так тихо, что свечи горели у раскрытого окошечка, не колеблясь.
А когда Тихона хоронили, то положили его в густом заросшем углу кладбища под большой белой березой...
L
События на Балканском полуострове развивались стремительно. Для всех кругов, близких к политике, была ясна неизбежность общеевропейской катастрофы.
Австрия не приостановила мобилизацию и просьбу о продлении срока ноты истолковала как желание противника оттянуть время, чтобы успеть подготовиться. Хотя заявила, что она не преследует захватнических целей, а хочет только обезопасить себя.
Россия в виду австрийской мобилизации сочла необходимым сначала объявить частичную мобилизацию, заявив, что она отнюдь не преследует захватнических целей, а прибегла к этой мере лишь в видах собственной безопасности. Причем о предпринимаемых Россией мерах было доведено до сведения германского правительства с объяснением, что они являются последстви-ем австрийских вооружений и отнюдь не направлены против Германии.
Ввиду этого Германия была уже вынуждена мобилизовать собственные военные силы.
Тем более что во Франции и в Англии происходили спешные приготовления к войне на тот случай, если будет угроза безопасности их союзникам и им самим.
Вся Европа лихорадочно готовилась к войне, но чем большее число государств захватыва-лось в этот вихрь международного столкновения, тем больше было надежды на мирный исход, потому что слишком страшной грозила быть катастрофа.
Военные специалисты говорили, что при том огромном масштабе, которого потребует эта война, ни одно государство не продержится больше двух месяцев, что идти на эту войну - значит идти на взаимное уничтожение, потому что все войны мира, бывшие ранее, даже война двенадцатого года, окажутся просто игрушками в сравнении с этой, если она разразится.
И даже когда раздались первые пушечные выстрелы, направленные на незащищенный Белград, и тревожным эхом отдались во всех концах мира, даже тогда, после первых мгновений некоторой озадаченности, военные и дипломатические круги говорили о возможности приоста-новки развития конфликта.
Все продолжали говорить и писать о том, что еще далеко не все потеряно, так как Германия заявила, что если Россия прекратит свои военные приготовления, то и она, Германия, прекратит их.
И Россия заявила, что согласна кончить все миром, если Австрия распустит свои войска.
Задержка была только в том, что Австрия не могла распустить своих войск, так как подверг-лась бы опасности со стороны России, продолжавшей оставаться вооруженной.
Каждая держава, видя у своих соперников нежелание прекратить вооружение, была права заподозрить с их стороны злой умысел; в самом деле: если бы не было злого умысла, то незачем было бы и противиться мирным предложениям.
Попав в этот круг, все европейские державы и их представители-дипломаты делали то, что узел затягивался все больше и больше.
Но опять-таки: чем больше затягивался узел, тем увереннее дипломаты и какие-то военные специалисты говорили, что все окончится благополучно, так как, - повторяли они, - положе-ние настолько усложнилось, что катастрофа, если бы она разразилась, явно приняла бы размер уже не европейской, а мировой.
А это-то и служило гарантией того, что благоразумие должно одержать верх. И потому каж-дая держава делала то, чтобы вызвать это благоразумие у соседей, т. е. спешно и лихорадочно готовилась к возможным событиям.
* * *
В обществе были самые разнообразные отношения к назревающим событиям, но преобла-дающими были два настроения.
Одно - вдруг вспыхнувшая ненависть к Германии, которую считали главной виновницей событий, и в то же время горячие симпатии к подвергнувшейся нападению Сербии.
Другое настроение - настроение большинства - было напряженное ожидание хоть каких-нибудь крупных событий и боязнь, что все расстроится и никаких событий не будет. Это боль-шинство, большею частью далекое от политики, не имело собственного мнения и ждало этого мнения, этого слова со стороны.
Первые говорили, что Германия давно уже угрожала спокойствию Европы своим милита-ризмом, что ее тайная и упорная цель - добиться мирового владычества и что поэтому она примет все усилия, чтобы вызвать европейский пожар.
Вторые, ждавшие хоть каких-нибудь событий, как втайне ждут крушения поезда, на кото-ром сами не едут, усиленно говорили, что все дело кончится ничем, как будто боялись, что судьба подслушает их тайные желания и расстроит готовящуюся катастрофу.
Были еще иные, промежуточные настроения и слои: одни из них восставали против войны, другие ждали ее, чтобы пожертвовать собой или совершить подвиг, освободить, чего в условиях их обычной жизни сделать было невозможно, так как сами жили под надзором.
Третьи, стоящие близко к власти, были не против войны, а желали ее, чтобы поднять вконец обветшавший патриотизм, вызвать полезное кровопускание и отвлечь внимание своих внутрен-них освободителей в другую сторону. Пусть освобождают лучше где-нибудь на стороне, чем у себя дома.
Четвертые ждали войны, потому что на ней умным людям можно было хорошо заработать.
Не желали войны только внутренние враги, которые громко заявляли об этом. Потом те, кому непосредственно предстояло, в случае объявления ее, отправиться на фронт. Но мнения их спрашивали меньше всего.
Так что в общем число желающих катастрофы было неизмеримо больше числа не желав-ших её.
Но, конечно, ни один из этих групп не решился бы никогда высказать, что он хочет войны по тем побуждениям, какие действительно были в глубине его сознания, вроде полезности кровопускания из политических соображений или надежды на хорошие дела. Все слои и группы общества, как всегда не обнаруживая тайных побуждений, высказывали только праздничные, т. е. высокие идеи и побуждения, против которых нельзя было возражать.
И та идея, которая соответствовала самому праздничному, самому красивому, т. е. героиче-скому настроению, собирала большее количество приверженцев из общества, которое не имело еще найденного слова и чувствовало под собой зыбкость почвы и неопределенность отношения к событиям. А не иметь никакого отношения к событиям и сознаться в этом человеку с общественным настроением было по крайней мере неудобно.