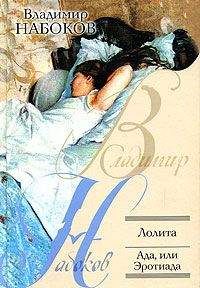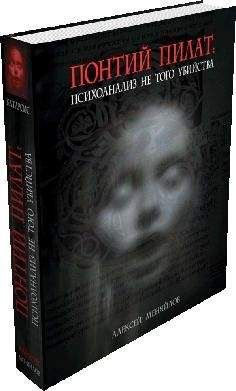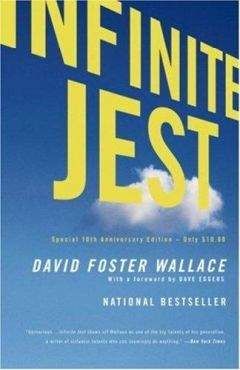Пока Ван удалялся, добрейший Дик все еще заходился в радостном крике.
В середине июля 1886-го, в то время, как Ван выигрывал турнир по настольному теннису на борту «роскошного» парохода (которому ныне требуется целая неделя, чтобы добраться от Дувра до величаво-белых вершин Манхаттана!), Марину, обеих ее дочерей, их гувернанток и двух горничных трепали на каждой остановке поезда, шедшего из Лос Ангелеса в Ладору, более или менее одновременные приступы русской «инфлюэнцы». В отцовском доме Вана поджидала полученная 21 июля (в милый день ее рождения!) гидрограмма из Чикаго: «дадаистский impatient[86] пациент прибудет место между двадцать четвертым и двадцать седьмым позвони дорис возможна встреча поклон соседство».
– Болезненно напоминает «голубянки» (petits blеus), которые любила посылать мне Аква, – со вздохом заметил Демон (машинально вскрывший послание). – А нежное Соседство, часом, не из знакомых мне девиц? Потому что, сколько ты ни пыхти, это как-то не схоже с посланием от одного доктора к другому.
Ван поднял глаза к плафону Буше на потолке малой столовой и в насмешливом восторге перед Демоновой проницательностью покачал головой. Да, разумеется. Ему придется нырнуть в глубь страны до самого Клонпо (анаграмма «поклона», понимаешь?), в сельцо, которое называется совсем как Легтам, только наоборот (понимаешь?), чтобы навестить сумасшедшую художницу по имени то ли Дорис, то ли Ордис, рисующую исключительно лошадок да мышиных жеребчиков.
Под выдуманным именем (Буше) Ван снял комнату в единственном постоялом дворе убогой деревушки Малагарь, стоящей на берегу Ладоры, милях в двадцати от Ардиса. Ночь он провел, сражаясь с достославным комаром или его cousin'ом, которому Ван куда больше пришелся по вкусу, чем ардисовским зверюгам. Единственная, расположенная на пристани ретирада представляла собой черную дыру со следами фекальных извержений меж двух великанских подошв раскоряченного постояльца. В семь часов утра 25 июля он из малагарской почтовой конторы позвонил в Ардис, его соединили с Бутом, в этот миг соединявшимся с Бланш и принявшим голос Вана за голос дворецкого.
– Черт дери, па, – рявкнул Бут в дорофон у кровати, – я занят!
– Давай сюда Бланш, дубина! – прорычал Ван.
– Oh, pardon, – воскликнул Бут, – un moment, Monsieur[87].
Пробка с влажным чмоком вылезла из бутылки (рейнвейн они, что ли, хлещут в семь-то часов утра!), и Бланш взяла трубку, но едва Ван принялся диктовать ей прилежно продуманное послание к Аде, как из детской, где под мертвым барометром сотрясался и булькал самый звучный в доме аппарат, ему ответила сама Ада, проведшая ночь qui vive[88].
– Лесная Развилка, сорок пять минут. Прости, что плююсь.
– Башня! – отозвался ее сладко звенящий голос, каким мог бы из райской лазури прокричать авиатор: «Вас понял!»
Ван взял напрокат мотоцикл, маститую машину с седлом, обтянутым в бильярдное сукно, и с претенциозно отделанными фальшивым перламутром ручками, и полетел, подпрыгивая на древесных корнях, по узкой «лесной дороге». Первое, что он увидел, это звездный блеск брошенного ею велосипеда, она подбоченясь стояла рядом – черноволосый белый ангел в махровом халате и ночных туфлях, отводящий взгляд в помраченном смущении. Неся Аду в ближние заросли, он ощущал жар ее тела, но насколько она больна, понял лишь когда после двух страстных спазмов она поднялась, облепленная крохотными бурыми муравьями, и засеменила, едва держась на ногах и что-то бормоча о крадущих джипы цыганах.
Чудовищное, честно сказать, свидание, но прекрасное. Он не сумел бы припомнить...
(Ты прав, я тоже. Ада.)
... ни одного произнесенного ими слова, ни одного вопроса, ни одного ответа, он поспешно подвез ее до дому, высадив так близко, как только посмел подобраться (и перед тем пинком вбив ее велосипед поглубже в папоротник), – и когда в тот же вечер позвонил Бланш, та драматическим шепотом сообщила, что «Mademoiselle заболела une belle pneumonie, mon pauvre Monsieur».
Через три дня Аде стало гораздо лучше, но Вану пришлось возвратиться в Ман, чтобы поспеть на то же самое судно, уходившее в Англию, – а там присоединиться к бродячему цирку, где работали люди, которых он не вправе был подвести.
Его провожал отец. Демон недавно чернее черного выкрасил волосы. На пальце его Кавказским хребтом сиял алмазный перстень. Длинные, черные в синих глазках крылья свисали сзади, колеблемые океанским ветром. People turned to look (люди оглядывались). Эфемерная Тамара – с подведенными веками, румяная, ровно Казбек, во фламинговом боа – никак не могла решить, чем она пуще потрафит своему демоническому любовнику: постоянным ли нытьем и показным безразличием к его красавцу сыну или знаками узнавания синебородой мужественности, отраженной в насупленном Ване, которого мутило от ее кавказских духов «Granial Maza»[89], семь долларов за бутылку.
(Знаешь, Ван, пока эта глава нравится мне больше всех остальных, не знаю, почему, но я ее обожаю. Пусть твоя Бланш остается в объятиях своего молодца, даже это не важно. Нежнейшим из почерков Ады.)
5 февраля 1887 года чусский еженедельник «The Ranter»[90] (обыкновенно столь привередливый и саркастичный) в неподписанной редакционной статье отозвался о выступлении Маскодагамы как о «неслыханном, самом впечатляющем номере, когда-либо предлагавшемся вниманию видавшей виды мюзик-холльной публики». Выступление было несколько раз повторено в Рантаривер-клубе, однако ни в программке, ни в рекламных извещениях ничто кроме определения «иностранный эксцентрик» не указывало ни на какие-либо особенности «номера», ни на личность его исполнителя. Обдуманные и обстоятельные слухи, распускаемые друзьями Маскодагамы, подстрекали домыслы, согласно которым он являлся загадочным гостем из-за Золотого Занавеса, особенно укрепившиеся после того, как в те же дни (то есть в самый канун Крымской войны) с полдюжины артистов прибывшего из Татарии большого «Цирка Доброй Воли» – три танцовщицы, больной и старый клоун со своим старым говорящим козлом, и муж одной из танцовщиц, гример (и несомненный многократный агент), – переезжая из Франции в Англию по только что прорытому «Чаннелу», переметнулись на сторону будущего противника. Грандиозный успех Маскодагамы в театральном клубе, члены коего до той поры привычно пробавлялись постановками елизаветинских пьес, в которых роли королев и фей исполняли миловидные мальчики, повлиял первым делом на карикатуристов. В злободневной юмористике стало обычаем изображать университетских преподавателей, провинциальных политиков, видных государственных деятелей и, разумеется, тогдашнего правителя Золотой Орды сплошными маскодагамами. В Оксфорде (близлежащем женском университете) местные буяны освистали нелепого подражателя (на деле – самого Маскодагаму, показавшего слишком мудреную пародию на свое выступление!). Проныра-репортер, подслушавший, как он клянет складку на устилавшем сцену ковре, назвал его в печати «гугнявым янки». «Дорогой господин Васкодагама» получил даже приглашение в Виндзорский замок – от владельца оного, по обеим линиям происходившего от Вановых предков, – но отклонил таковое, заподозрив в описке (безосновательно, как впоследствии выяснилось) намек на то, что его инкогнито раскрыто одним из чусских агентов политической полиции, – возможно, тем самым, который несколько времени тому спас психиатра П.О. Темкина от кинжала князя Потемкина, вставшего на кривую дорожку юнца из Севастополя, что в Идаго.
Летние каникулы Ван проработал в прославленной чусской клинике Темкина над задуманной с размахом, но так и не завершенной им диссертацией «Терра: явь анахорета или коммунальная греза?». Он опрашивал несметных невротиков, среди которых имелись артисты варьете, литераторы и по меньшей мере трое наделенных незамутненным умом, но «павших» духовно космогонистов, не то состоявших в телепатической стачке (они никогда не встречались и даже не знали о существовании друг друга), не то и вправду открывших, – никто не ведал, где и как (посредством, быть может, неких запретных «взводней»), зеленый мир, кружащий в пространстве и спирально плывущий по времени, мир, в категориях материи-сознания не отличимый от нашего и описываемый ими в столь же дотошных деталях, в каких три человека, видящие одну и ту же улицу из трех разных окон, могли бы описать затопившее ее карнавальное шествие.
В свободное время он предавался разнузданному распутству.
В августе известный лондонский театр предложил ему контракт на утренние и вечерние выступления во время Рождественских каникул плюс выступления по уикэндам во всю остальную зиму. Он с радостью согласился, поскольку испытывал жгучую потребность как-то отвлечься от своих опасных занятий: в особого рода маниях, обуревавших пациентов Темкина, таилось нечто заразительное для молодых исследователей.