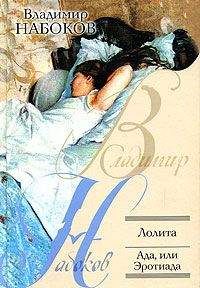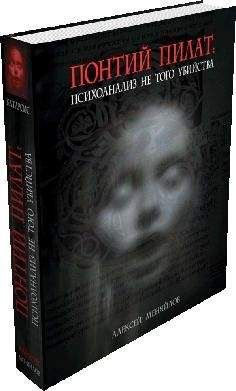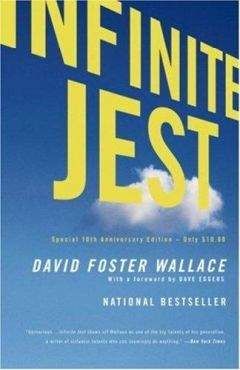Слава Маскодагамы не могла не достичь и американского захолустья: в первую неделю 1888-го газеты Ладоры, Ладоги, Лагуны, Лугано и Луги опубликовали его фотографию, – правда, лицо закрывала маска, однако ни любящего сродича, ни преданного слугу она обмануть не могла; впрочем, сопутствующий снимку репортаж перепечатан не был. И то сказать, макабрический трепет, сопровождавший удивительные выступления Вана, не смог бы передать никто, кроме поэта и только поэта («в особенности, – как выразился один остроумец, – принадлежащего к группе Черная Башня»).
При поднятии занавеса сцена оставалась голой; затем, едва сердце замершего зрителя успевало отсчитать пяток ударов, нечто огромное и черное вылетало из-за кулис под дробь дервишевых барабанов. Мощь и стремительность его появления так сильно потрясали присутствующих в зале детей, что и долгое время спустя, во мраке облитых слезами бессонниц, в слепительном блеске буйного бреда нервные мальчики и девочки заново переживали, добавляя кое-что от себя, нечто схожее с «дородовой дурнотой» – ощущением бесформенной мерзости, свиста неописуемых крыл, невыносимого расширения жара, пещерным дуновением пышущего со страшной сцены. Туда, в это залитое пронзительным светом, выстланное кричащим ковром пространство вырывался великанского роста (полных восемь футов) мужчина в маске, выбегал, твердо ступая ногами в мягких сапожках вроде тех, в каких пляшут казаки. Просторный, черный мохнатый плащ, то, что называется «бурка», облекал его silhouette inquietante (таким описала его сорбоннская корреспондентка, все эти вырезки нами сохранены) от шеи до колен или от тех и до тех частей его тела, которые оными выглядели. На голове гиганта красовалась каракулевая папаха. Верхнюю часть заросшего густой бородой лица скрывала черная маска. Некоторое время этот неприятный колосс самодовольно прохаживался по сцене, затем кичливая поступь сменялась тревожной побежкой запертого в клетку безумца, затем он принимался волчком кружиться на месте, и наконец, под лязг оркестровых цимбал и вопли ужаса (вероятно, поддельного) на галерке, Маскодагама подскакивал, переворачивался в воздухе и крепко вставал на голову.
В этой пугающей позе, с папахой в качестве псевдоподной подошвы, он, несколько попрыгав вверх-вниз, точно клоун на одноногой ходуле, вдруг разваливался на составные части. Между голенищами сапог, еще надетых на вытянутые вверх и в стороны руки, появлялось лоснистое от пота, улыбающееся лицо Вана. В тот же миг его настоящие ноги сдирали с себя и пинком отбрасывали подложную голову в помятой папахе и бородатой маске. От волшебного преображения «у публики спирало дыхание». Справясь с ним, она разражалась отчаянными («оглушительными», «бурными», «ураганными») рукоплесканиями. Ван прыжком исчезал за кулисами – и в следующий миг возвращался, уже в черном трико, танцуя на руках джигу.
Мы уделяем так много места описанию его номера не оттого только, что артистов варьете, принадлежащих к племени «эксцентриков», забывают особенно скоро, но и потому что нам хочется понять причину, по которой этот номер так волновал самого Вана. Ни чародейский «кэтч» на крикетном поле, ни грандиозный гол, забитый им на футбольном (в обеих великолепных играх Ван выступал за университетскую сборную), ни еще более ранние телесные триумфы (вспомним хотя бы самого здоровенного из задир Риверлэйна, которого он отмутузил в первый же день в школе), не принесли Вану удовлетворения, и отдаленно схожего с доставленным Маскодагамой. И дело тут не только в непосредственном ощущении теплого дыхания достигнутой цели, хотя будучи уже человеком весьма преклонных лет и оглядываясь на жизнь, полную непризнанных свершений, Ван с насмешливым наслаждением – даже большим, чем испытанное им в описываемую пору, – вспоминал вихрь банальных восторгов и вульгарной зависти, на краткое время овивший его в молодые года. По природе своей это наслаждение принадлежало к тому же порядку вещей, что и извлеченное им много позже из самому себе поставленной, несосветимо сложной и по внешним признакам неумной задачи, – из попыток В.В. выразить нечто, влачившее до выражения лишь сумеречное существование (а то и вовсе никакого не имевшее, оставаясь иллюзией попятной тени этого, неотвратимо зреющего, выражения). Как Адин карточный замок. Как попытка поставить метафору с ног на голову, не ради одной только трудности трюка, но из потребности воспринять в обратной перспективе низвергающийся поток или восходящее солнце: восторжествовать, в определенном смысле, над «ардисом» времени. И потому упоение, с которым молодой Маскодагама одолевал гравитацию, было сродни восторгу художественного откровения, решительно и естественно неведомого простоватым критическим оценщикам, бытописателям, моралистам, мелочным торговцам идеями и им подобным. На сцене Ван производил фигурально то, что в позднейший период жизни производили фигуры его речи – акробатические чудеса, никем не жданные и пугающие малых детей.
Не следует сбрасывать со счетов и чисто телесное удовольствие от рукохождения, и павлиные пятна, оставляемые ковром на его танцующих голых ладонях, – отражения пышно окрашенного исподнего мира, первооткрывателем которого ему еще предстояло стать. В последнем турне Вана его номер завершался танго, для которого он получил партнершу, кабареточную танцорку из Крыма в коротком искрящемся платье с низким вырезом на спине. Танцуя, она пела по-русски и по-английски:
Под знойным небом Аргентины,
Под страстный говор мандолины
Neath sultry sky of Argentina,
To the hot hum of mandolina
Хрупкая, рыжая «Рита» (подлинного ее имени он так и не узнал), хорошенькая караимка из Чуфуткалэ, где, как она ностальгически рассказывала, распускается меж голых скал желтый кизил, обладала странным сходством с Люсеттой, какой та должна была стать лет десять спустя. Танцуя, Ван видел лишь ее серебристые туфельки, кружившие, проворно переступавшие в такт движеньям его ладоней. Он наверстывал упущенное на репетициях и однажды вечером заикнулся о любовном свидании, но услышал в ответ гневную отповедь, – она сказала, что без ума от мужа (того самого гримера), а Англию ненавидит.
Чус издавна славился как чинностью своих правил, так и блеском своих безобразников. Личность Маскодагамы не могла не возбудить интереса, а затем и не стать достоянием университетского начальства. Его наставник, суровый, старый педераст, напрочь лишенный чувства юмора, но обладающий врожденной почтительностью ко всем условностям университетского обихода, объявил донельзя разгневанному, едва сохраняющему вежливую мину Вану, что на следующий его год в Чусе ему не удастся сочетать цирк с учебой, и что если он твердо решил стать артистом варьете, его придется отчислить. Старик написал еще Демону, прося его повлиять на сына, дабы тот оставил Телесные Трюки ради Философии и Психиатрии, благо Ван первым из американцев получил (в семнадцать лет!) премию Дадли (за работу о Безумии и Вечной Жизни). Отплывая в Америку в первые дни июня 1888-го, Ван еще не вполне сознавал, на каком компромиссе смогут сойтись благоразумие и гордыня.
Ван вновь посетил Ардис в 1888-м. Он появился там под вечер хмурого июньского дня, нежданный, незваный, ненужный, с небрежно свернутым в колечко бриллиантовым ожерельем в кармане. Сбоку, поляной, подходя к усадьбе, он видел, как репетируют для какой-то неведомой фильмы сцену из новой, без него и не для него идущей жизни. Судя по всему, только что закончился большой прием. Три молодые дамы в платьях фасона «yellow-blue Vass» с модными радужными кушаками, обступили полноватого, фатоватого, лысоватого молодого господина, стоявшего на веранде гостиной с похожим на флейту бокалом шампанского в руке и глядевшего вниз, на голорукую девушку в черном: убеленный сединами шофер подавал к крыльцу старую, сотрясающуюся на каждой неровности двухместку; девушка, широко разведя голые руки, держала перед собою раскрытую белую накидку своей двоюродной бабки, старой баронессы фон Краниум. Очерк нового, вытянувшегося тела Ады черным профилем рисовался на белизне накидки – чернотой ее ладного шелкового платья без рукавов, украшений, воспоминаний. Неповоротливая старая баронесса постояла, что-то нашаривая подмышкой, затем под другой – что? костылек? щекочущий хвостик скосившихся бус? – и когда она полуобернулась, принимая накидку (уже перенятую у внучатой племянницы подоспевшим, наконец, не знакомым Вану слугой), полуобернулась и Ада и, белея еще не убранной бриллиантами шеей, взбежала по ступенькам крыльца.
Ван, огибая колонны холла и стайки гостей, летел за нею по дому, к далекому столу с хрустальным кувшином вишневой «амброзии». Вопреки моде, она не носила чулок; икры ее были крепки и белы, а (у меня под рукой заметки к роману, так и оставшемуся призраком) «низкий вырез черного платья помогал рождаться контрасту между знакомой тусклой белизной ее кожи и брутальной чернотой по-новому, в хвост, собранных волос».