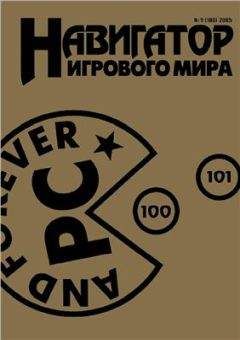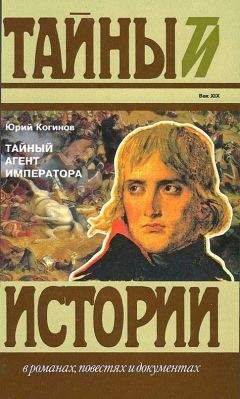— Клянусь кобылою пророка, четом и нечетом, никогда и ни для кого тебя не покидать.
— Буду ли я счастлива с тобою?
— Буду стараться всем, чем только могу, сделать тебя счастливой, но отвечай же, Кулле, идешь ли замуж за меня?
— Согласна.
— Когда же? Надо бежать!
— Я готова, у тебя готово ли все? Взял ли ты нужные предосторожности?
— Нынче опасно! Друзья мои не могут мне помочь, погоня может настигнуть нас.
— Так нынче не надо. Я всегда готова; когда же можно будет тебе?
— Пшемаф, ради аллаха и последнего пророка,— возопила старуха,— увези мою внучку скорее: ты не поверишь, сколько горя переносит она от Шерет-Лука, грозящего ей ежедневно позором или несчастьем.
Пшемаф невольно ухватился за рукоять кинжала, зверски окинул глазами вокруг себя, будто ищет жертвы мщения:— А, Шерет-Лук,— воскликнул он, но тотчас же умерил свое негодование.
— Завтра утром, Кулле,—сказал он,—черкес, который принесет тебе вот это,— и показал ей кольцо на пальце,— будет надежный человек; через него ты можешь уведомить меня о себе; он принадлежит к здешнему двору, имени его я не знаю. Когда он подаст тебе кольцо, дай ему вот это!—и подал ей рубль серебром.— Я дам знать, когда все будет готово к побегу, теперь прощай!— И Пшемаф вошел опять в камин, откуда вылез по аркану на крышу. Кулле принесла дров и развела огонь, чтобы свежим дымом затянуть след, оставшийся в трубе.
Пшемаф дошел благополучно до двора, где ждали лошади, и послал сказать Али-Карсису, что пора отправиться обратно. Покуда молодой кабардинец имел свидание с любимою им девушкой, разбойник продал своих трех пленных, обязавшись выставить их покупщику в ту же самую ночь. Дорогою Пшемаф благодарил Али-Карсиса за услугу, им оказанную; разбойник отвечал:
— Что обещаю, то всегда исполняю, как бы трудно оно ни было! Но теперь я еще не сделал для тебя ничего, что бы заслуживало благодарность.— Отъехав немного, он прибавил:— Прощай, Пшемаф, вот тебе проводник; с ним проедешь куда хочешь: вон твоя дорога.
Они расстались.
Проводник ехал по степи, потому что ночью по дороге ехать опасно. В разных местах попадались им пешие черкесы, то в одиночку, то по двое: иной уводил корову, другой быка. Всякий раз, когда они встречали кого-нибудь, проводник посылал вслед хищникам бранные слова, прибавляя: «Скоро ли меня послушаетесь да перестанете воровать? Право, стыдно, братцы, а еще стыднее попадаться с ворованным на глаза честным людям, каковы мы, например!»— «А сам, приятель, куда едешь?—отвечали ему прохожие.— Небось прибрать то, что забыто хозяином!» Проводник пуще прежнего закидал их ругательствами: «Врете, лжецы!—говорил он.— Право, не воровать еду».
До рассвета Пшемаф был у Кубани, переправился один, распростясь дружески и поблагодарив своего проводника, который поехал обратно, чрезвычайно довольный двумя рублями серебром, полученными им в пешкеш (подарок).
На следующий день к вечеру урядник, посылаемый еженедельно в Ставрополь за почтой, привез Александру Петровичу письма. На вопрос последнего, почему так поздно, урядник отвечал:
— Не мог ехать ночью, ваше благородие! В верху на Кубани была большая тревога в соседственном полку.
— Что же там случилось?
— На половине дороги между двух станиц хищники напали на вечерний разъезд и уничтожили его, между тем в станице с вечера было получено известие от князька из мирного аула, что неподалеку от Кубани видна большая неприятельская партия. Тотчас собрали и усилили резервы. При вести о нападении на ночной разъезд казаки с двух станиц бросились на тревогу, настигли партию в степи и окружили ее. Черкесы зарезали своих коней, обложились ими и держались таким образом до рассвета. Утром у них оказалось всего тринадцать человек, напрасно убеждали их сдаться, они не хотели и слышать. Вызвали охотников, которые напали на неприятеля и уничтожили его. Казаков, сказывают, также немало погибло. Шайка, слышно, будто из абреков. Одного узнали: он ворвался накануне в мельницу, зарезал мельника и увез трех детей. Покуда возились с. ними, другая партия, гораздо сильнее, успела переправиться через Кубань, понеслась в степь, напала на один из наших хуторов, разграбила и опустошила окрестности, изрубила всех, кто защищался, и, забрав с собою большой плен, ушла за Кубань. Владелец хутора, бывший там... его-то они особенно искали... едва успел скрыться от хищников.
— Какая же это была партия? Кто начальствовал над ней?
— Неизвестно, ваше благородие, она ушла, не будучи настигнута, погоня опоздала, лошади казаков пристали; но ворвалась она не со стороны абреков.
Урядник вышел. Александр стал распечатывать письма: первое было от матери, которая уведомляла его о кончине бабки, оставившей ему наследство. Прасковья Петровна уговаривала сына предоставить ей управление этим имением. Она писала также, что они едут, по совету медиков, на Кавказские Воды, для пользования отца его, которого разбил паралич, и поручала Александру, когда Николаша к нему заедет, сказать, чтобы он дожидался их на Кавказе. Этого требует отец. Деньги же, нужные ему для продолжения путешествия, она обещала, привезти с собою.
Александр тотчас сообщил это брату и отдал ему в удостоверение письмо матери.
— Я согласен дожидаться их,—отвечал Николаша,— но непростительно оставлять меня без денег, когда я их требую.
— Разве ты не видишь,—возразил Александр,—что матушка не получала твоего письма? Когда ко мне писала, она еще не знала, что ты здесь.
— Правда твоя!—сказал меньшой Пустогородов, пробегая опять глазами письмо.—Она пишет, чтобы ты передал мне ее поручение, когда к тебе заеду.— Немного погодя он прибавил:— Поздравляю тебя, господин помещик, с наследством! Скажи, неужели ты сделаешь неосторожность,
поручишь матушке управление своим имением? Разве захочешь оставаться в ее зависимости? Не надоело это тебе? Нет, в таком случае я бы решительно отказал!
— Я еще и не думал об этом! Мне жаль, что не мог видеться с доброй бабкою, жаль и отца, за которого боюсь. Как не стыдно матушке не написать подробнее об его болезни, есть ли, по крайней мере, надежда на выздоровление? Тяжело быть связанным обстоятельствами: иначе я бы поскакал к ним.
— Зачем? Разве они не приедут на воды? Ведь тебе самому необходимо » лечиться, а то, пожалуй, останешься вечно без руки. Вот мне дело другое! Но и то приходится поневоле оставаться здесь. Сознаюсь, куда скучна твоя станица!
— Нет, зачем нам оставаться? Завтра же я намерен проситься на воды; недели через две получу позволение,— и тогда поедем вместе в Ставрополь, где пробудем до начатия курса.
— Это было бы не худо! Что же ты думаешь отвечать матушке?
— Я? Я напишу, что как мы проведем лето вместе, то обо всем лично поговорим и решим.
— Ну, если так, предсказываю вперед, она будет управлять твоим имением. Магушка станет доказывать, как невыгодно заниматься этим заочно, будет говорить, до чего доводят приказчики, как они разоряют и прочая, и прочая, найдет, что сказать!
— На заочное управление ей нельзя будет ссылаться, потому что я выйду в отставку. Но если она станет требовать непременно имения, разумеется, я уступлю, уважая материнскую волю.
— Будь я на твоем месте, никому в мире не согласился бы отдать свою собственность, на которую не имеют права.
Появление Пшемафа прекратило разговор между братьями.
— Слышали о прорыве?—спросил Александр.
— Да!—отвечал черкес.—Надо было ожидать этого, нынче курбан-байрам*. Собравшись праздновать, нельзя черкесам не попытать воинского счастья!
* Название праздника, оканчивающего весенний "магометанский пост.
Чем же им полакомить желудки, как не отбитою барантою? Они так бедны, что без этого им и праздник оставался бы все тем же постом. Впрочем, я уверен, этот прорыв был от Али-Карсиса.
— И я то же думаю,—сказал Александр,—однако он проворен! Давно ли здесь был?
Николаша в свою очередь сдёлал замечание, что если б была его воля, он истребил бы картечью всех черкесов, а тех, которые достались бы ему живьем, беспощадно бы перевешал.
Пшемаф в таких случаях всегда молчал, но тут не вытерпел и сказал:
Это, Николай Петрович, все новоприезжие так говорят, и да простит им бог вред, который они делают этими необдуманными отзывами здешнему краю и России. С приезжающих сюда новичков я, если б был начальником, брал бы подписки —никогда не изъявлять здесь подобных мнений и не произносить пустых угроз. Хотите ли, я скажу вам причину побега Дунакая в горы. Один подобный вам филантроп, которого не хочу называть, рассердившись на него по пустому обстоятельству, начал отзываться точно как вы, Николай Петрович; говорить, что всех горцев надо перебить да перевешать, что иначе порядка здесь не будет; и пошел рассуждать в этом смысле... да в заключение прибавил: «Да я — этого негодяя!., да я его!., да я пойду с своими казаками, окружу его деревню, сожгу его дом, пленю его семейство, схвачу и отдам в солдаты...» Мы с вами знаем, что он не может и не смеет этого сделать: но черкесы не знают. У них сказано —и сделано. Пустые угрозы им непонятны. Дунакай узнал как-то об его гневе, испугался хвастливых стращаний скорого на язык молодца нашего: мысль о возможности быть отданными в солдаты приводит в трепет всех горцев; и вот Дунакай бежал за Кубань. Теперь непременно пойдет потеха. Видите ли, какую можно заварить кашу неосторожными рассуждениями вроде тех, в какие вы пускаетесь. Правительству и начальству нельзя держать за язык каждого новоприезжего философа; но каждый, если не по благоразумию, то по расчету личной выгоды и общей безопасности должен бы взвешивать свои слова. Лучше бы вы и все, которые готовы давать свое мнение о здешнем крае, говорили о доставлении этим племенам мирных занятий хлебопашеством, промышленностью, торговлею, об обеспечении им безбедного существования, а не о резании и вешании: такие отзывы, раздаваясь со всех сторон, произвели бы лучшее впечатление в черкесах, поселили бы в них доверие и надежду, подали бы хорошие идеи...