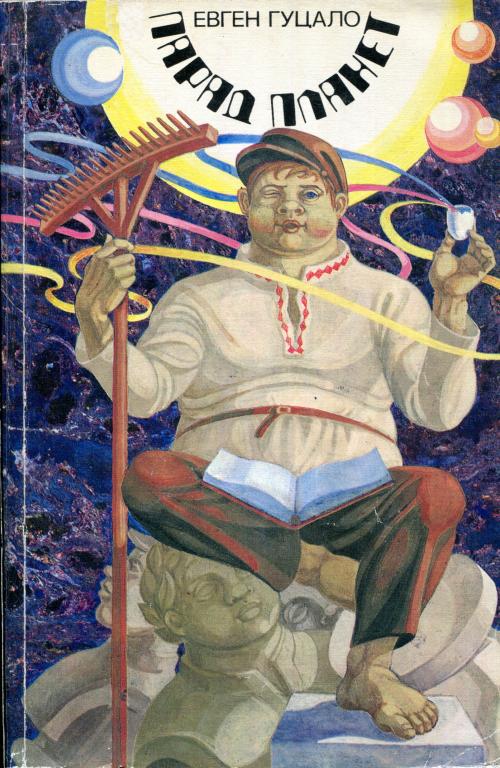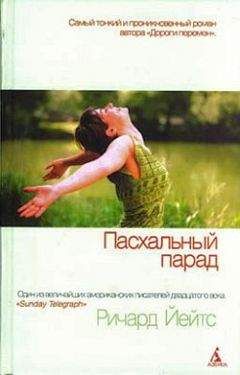только нет ума, — ответствовал академик, незаметно для самого себя уже почерпнув кое-что из бездонного кладезя яблоневских присказок, пословиц и прочей народной мудрости. И принялся задабривать своего наставника: — Но лучше с вами, Хома Хомович, два раза потерять, чем со мною один раз найти, эге?
— Кто ведает! — рассудительно сказал старший куда пошлют. — Но, может, и правда — лучше со мною в пекле, чем с вами в раю. Видно, ни в Оксфорде, ни в Кембридже вас такому простенькому делу, как отгребание навоза, не учили, поэтому поучитесь в Яблоневке, эта наука еще понадобится на старости лет, потом еще и другим академикам передадите, которые бы и рады косить, да некому за ними косу носить.
— Ибо по простоте своей люди и пропадают, — согласился маститый Мастодонтов-Рапальский. Вилы он старался удержать одной рукой, потому что другой хватался за золотое пенсне, которое спадало с переносицы крючковатого носа. — Вот вам, Хома Хомович, помогает, а мне почему-то совсем не помогает моя осведомленность в области тормозящих нейронов, рецептивных полей, синаптических передач…
— Не скажите! — возразил старший куда пошлют и поморщился так, как порою святой от святого морщится. — Без этих знаний вот тут, в коровнике, за вас, может, не дали бы и печеной луковицы.
Хорошо, что грибку-боровичку попался такой старательный шеф, как академик Мастодонтов-Рапальский. Конечно, в первый его приезд в колхоз у этого прославленного авторитета не все еще получалось с вилами и уборкой навоза, но разве найдется такой смельчак, который будет утверждать, что у академика таки ничего не выйдет и спустя несколько лет после начала его шефской работы в колхозе? Но, к сожалению, не все среди приехавших шефов отличались таким усердием и скромностью, как Мастодонтов-Рапальский.
Какой-то другой академик носил охапками сено и засыпал его в ясли для скотины. Щуплый, будто младенцем ни разу не нюхал материнского молока, с голубой бархатной шапочкой на голове, которая походила на чурку для игры в рюхи, этот академик пронзал каждого своими золотистыми, полными негодования глазами, напоминавшими монеты царской чеканки. Маститый Мастодонтов-Рапальский шепотом сказал старшему куда пошлют, что золотоглазый в бархатной шапочке — знаменитый востоковед, часто выезжает в арабские страны, принимает участие в каких-то древних раскопках на берегах Мертвого моря, написал ценные труды об уникальных и редкостных монетах династий Саманидов, Тимуридов, Шейбанидов, способен часами анализировать традиционные версии сюжета о Юсуфе и Залихе в пуштунской литературе, может в самозабвении на память цитировать Османские судебные документы любого столетия. Конечно, сено из его рук высыпается и он не умеет еще пройти как следует по коровнику, но пусть старший куда пошлют не сомневается в том, что золотоглазого в бархатной шапочке знают почти все тюркологи мира. Видимо, в глазах Хомы промелькнула тень сомнения или недоверия к услышанному, ибо маститый Мастодонтов-Рапальский проворно подскочил-к «знаменитому востоковеду», что-то шепнул на ухо — и у того от возмущения прибавилось золота в каждом глазу по меньшей мере унций на тридцать-сорок. Путаясь тоненькими ножками в соломенной подстилке для коров, он подошел к грибку-боровичку и отрекомендовался: «Иона Исаевич Короглы». Рука, которую пожал грибок-боровичок, была твердой, маленькой и круглой, словно медная фельса, то есть монета. А потом он заговорил на арабском языке, причудливо округляя или вытягивая в трубочку румяные, будто персики, губы. Когда Иона Исаевич Короглы замолчал, старший куда пошлют сказал с усмешкой:
— Извините, что я немножко засомневался в вашей учености, но после того, как вы мастерски прочитали газель из парижской рукописи Дивана, которая принадлежит несравненному Бабуру, я уже нисколько не сомневаюсь в вашей эрудиции.
У бедного Короглы от удивления лицо стало такое, будто он только сейчас понял, что приехал в Яблоневку в большом сапоге на левой ноге, а малый сапог забыл дома под лавкой, и его золотистые очи округлились как поросячий хвостик. Грибок-боровичок как ни в чем не бывало принялся переводить газель Бабура:
С тех пор, как это лицо и эти косы заполонили мое сердце, и днем нет для меня покоя, и ночью нет для меня сна. В какую сторону я ни пойду, рядом со мною идет страдание, куда бы я ни направился, навстречу мне идет горе. Сотни мук и унижений изведав, тысячи страданий и печалей изведав, покоя мало изведав — такой, как я, есть где-нибудь еще? Разлука с солнцеликой, боль от этой непоправимой беды разожгли в моем сердце огонь, затопили мою душу водою. Как бы ни было тяжко, не говори людям про свою боль, потому что твой плач, о Бабур, для людей — смех.
Академик Мастодонтов-Рапальский, которого старший куда пошлют уже успел очаровать раньше, смотрел ему прямехонько в рот, пока из этого рта вылетали все новые и новые бейты — от первого до последнего. Академик Короглы еще не догадывался, что за этим грибком-боровичком кроется сила, способная и мертвого из могилы поднять, поэтому лишь ошалело хлопал глазами.
— Эту газель Бабур написал размером хазадж-и мусаман-и ахраб, — сказал Иона Исаевич, немного приходя в себя, но еще не ведая, что с грибком-боровичком тягаться — как с лихой бедою. — В первом бейте слова-антонимы «день» и «ночь» сообщают антитетичность выражения…
— Эге ж, Иона Исаевич, — не очень вежливо перебил его старший куда пошлют, которому до сего дня не выпадало еще так близко общаться с академиками в коровнике. — А уже в пятом бейте, который завершает газель, Бабур выразил антитезу словами-антонимами «твой плач» и «смех»…
Сбитый с толку Короглы (язычок его, видать, любил вскочить, перескочить и хвостика не замочить) быстро заговорил про ряд семантических противопоставлений в этой газели, о том, что они свойственны для многих дуалистических мифологий, характерных для архаических периодов развития общественных структур. А Хома (с великой уверенностью в том, что и на панихиде был, и в кадило дул) не остался в долгу перед академиком: быстро заговорил о бинарной логике мышления на основе тотемических представлений, о руническом письме, о парных антитетичных словосочетаниях ради стилистического приема.
Слушая тонкие, квалифицированные рассуждения старшего куда пошлют о первом бейте пятой газели Бабура из его парижской рукописи Дивана, ссылки на авторитетные имена Алишера Навои, Самойловича, Благова, Мелетинского, Золотарева и других, академик Иона Исаевич то синел, то зеленел, охваченный неожиданной завистью и страстным желанием, чтобы грибок-боровичок в подтверждение своих мыслей сослался и на его имя. Но