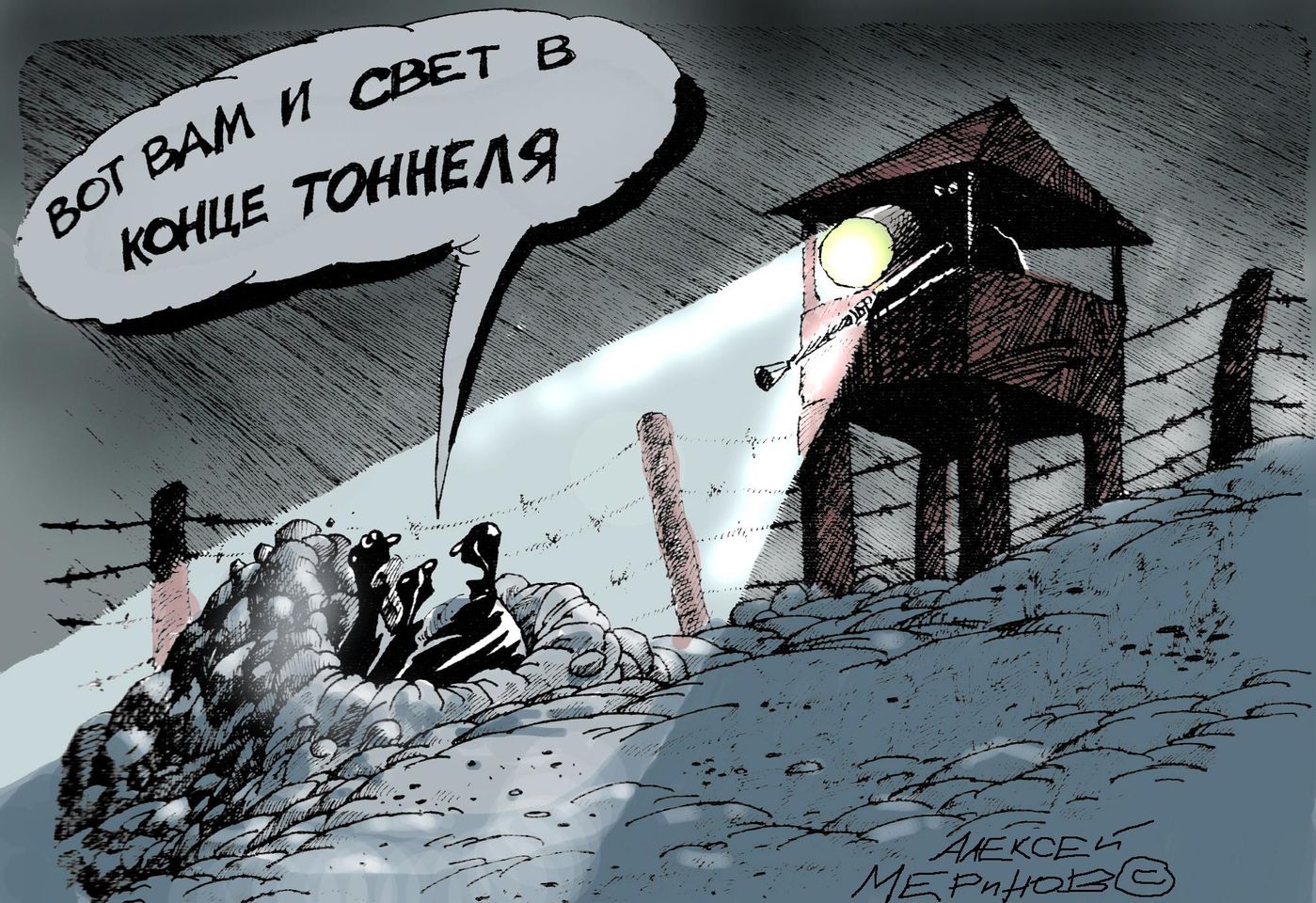и он часа три просидел за компьютером, время от времени ловя себя на странном ощущении: как будто видит себя со стороны, перед ярким экраном монитора, и тяжело вздыхает огромным темным пространством, набитым джинсой, трикотажем, рубашками и… Да, гнездом моли в старом шерстяном носке.
Через неделю пришла новая пачка глаз с али-экспреса – заказал в первый же вечер, – и в городе у него снова прибавилось собственных глаз. Несколько даже пришлось найти и отклеить – слишком часто перед ним возникал полуподвальный бар как раз напротив одного из рекламных щитов, бар был популярный и шумный, и видеть, что происходило у него на пороге, было неприятно. Еще через неделю он клеил глаза только на деревья в парке и скверах – с ними получалось лучше всего. Работать было уже невозможно, зато отлично получалось спать, сны снились яркие, суматошные и довольно веселые. Дома глаза получил еще холодильник и любимая чашка, так что с тех пор кофе не убегал ни разу: даже отойдя от плиты, он точно знал, когда следует подхватить джезву с огня.
Время от времени ему казалось, что он превращается в стаю птиц, несущуюся через город, и каждая видит свою картинку, образы мельтешили, сменяя друг друга, как в калейдоскопе. Уставал, как никогда в жизни, даже думал иногда: не снять ли все глаза, которые еще не отвалились сами, перевод и два текста уже подпирали, их нужно было сдавать, но он решил: скажусь больным и поживу так еще хотя бы неделю. Так интересно и тревожно ему еще никогда не было.
Однажды, в солнечное погожее утро, подошел к зеркалу, чтобы побриться – и с минуту стоял, разглядывая собственное отражение: как будто две картинки накладывались одна на другую. На одной был он – привычно бледная кожа, выпирающие ключицы, россыпь родинок. А на второй – вместо тела в зеркале клубился какой-то странный туман, сквозь который просвечивали кости, оплетенные паутиной сосудов, и это было красиво, как световое шоу в клубах цветного дыма. Отложил бритву и, глядя в зеркало, попытался дотронуться до груди. Пальцы погрузились в туман, коснулись ребер – он почувствовал, как рука проникает под кожу, но почему-то не испугался, может быть потому, что одновременно видел птиц, обдирающих рябиновый куст, толпу ранних пассажиров на остановке, солнечные пятна на домах старого города, саксофониста на пешеходке – и еще множество картинок такого ясного и веселого утра, что невозможно было думать о чем-то, кроме этой довольной, полной жизни возни всего города разом.
Осторожно раздвинул ребра – они подались, как полоски жалюзи на окне. Под ними, чуть быстрее, чем обычно, но ровно и гулко работало сердце. Отошел от зеркала, нашел в пальто пакетик с двумя последними из запаса глазами, почему-то разными, один – карий, второй – синий, вернулся к зеркалу в спальне, еще раз дотронулся до ребер, зажмурился – и двумя неловкими жестами налепил оба глаза на сердце, чуть кривовато.
Все тело затопил ровный, пульсирующий гул, пришлось сесть, а потом и лечь на холодные плашки паркета.
– Вена, – сказал он вслух и вытянул в сторону левую руку. – Артерия, – сказал он и вытянул правую. Пошевелил пальцами и хихикнул: – Сосудики.
Гул нарастал. В нем появлялись отдельные звуки, ритмичные, ровные. Ритм проступал во всем, даже в вое сигнализации какой-то машины под окном. Мир превратился в череду ритмов, разных, но гармоничных, и слушая этот хор, он понял: во всем есть смысл. Этот ритм и есть смысл, и смысл – есть ритм.
Нашли его только через два дня, вскрыв квартиру, он так и лежал крестом на полу у кровати, в одних трусах, с двумя дурацкими глазами над левым соском, карим и синим. Он улыбался и выглядел самым счастливым человеком на свете.
Какова вероятность
Сколько раз говорил себе: некоторые вещи делать нельзя, вот просто нельзя, как нельзя ставить любимую керамику в посудомоечную машину, раз поставил, два, на третий – обязательно вынимаешь плошку со сколом, глазурь бьется о решетку под струями воды, великая и обидная вещь – практика. Обидная, потому что часть керамики все-таки загубил, пока догадался, а великая – потому что только после того, как загубил, понял наконец, почему в столовках чашки иногда выглядят так, будто их кто-то долго и ожесточенно грыз. А это выходило, мягко говоря, боком. Он так хорошо представлял себе, как кто-то берет кофе с молоком и пять пышек, кусает пышку, а потом в задумчивости машинально кусает чашку, что однажды наткнулся в любимой пышечной: зубы как пила, рожа круглая, как полнолуние, на столике – четыре чашки, от каждой откусывает край, хрустит и утирается серой варежкой.
Тогда он пулей вылетел из пышечной и больше не ходил туда целых восемь лет. А вот теперь завел себе посудомойку, еще через неделю обнаружил сколы – и чуть не расплакался от облегчения, вот же объяснение, простое и понятное, и больше никаких чашкоедов. Чашкоедов действительно больше не было, а пышечная при этом была, и это было замечательно.
Так что практичные объяснения он очень любил и собирал их, где мог.
Справочники, энциклопедии и бесконечный сериал «Как это сделано». До тех пор, пока не было простого и понятного объяснения самым разным предметам и явлениям, он объяснял себе все сам, как умел, и последствия этих объяснений бывали когда смешны, а когда трагичны. Но вот, скажем, бутерброды у него всегда падали только маслом вниз, потому что против закона природы не попрешь. А теорию вероятности ненавидел всей душой, потому что его кубики всегда падали двумя шестерками вниз, но такая особенность организма хороша только в казино, а в жизни – не очень-то. Стоило в воображении допустить возможность какого-то события и задержать на нем внимание хотя бы на несколько минут, то как бы ни была мала его вероятность, оно случалось, и как правило – крайне не вовремя.
Хотя бывали и приятные исключения. Скажем, метро. Какова вероятность того, что пересаживаясь с синей ветки, окажешься на зеленой, а не на красной? Довольно велика, особенно, если переходов три штуки, и все – под землей, то есть никаких ориентиров, кроме указателей. Иногда, когда уж очень спешил, даже не ехал никуда, а просто спускался под землю, заходил на одной станции, скажем, на проспекте Ленина, а выходил сразу на другой, у вокзала, эскалаторы-то везде одинаковые. Но так делать старался пореже, потому что стоило дать волю этой самой теории вероятности, и масло на сковородке загоралось раньше, чем он успевал разбить в нее яйца. Хорошо хоть, все ожоги, порезы и синяки заживали на нем как на собаке. Да и посуда, как известно, к счастью бьется, ну или по крайней мере – к походу на керамическую ярмарку,