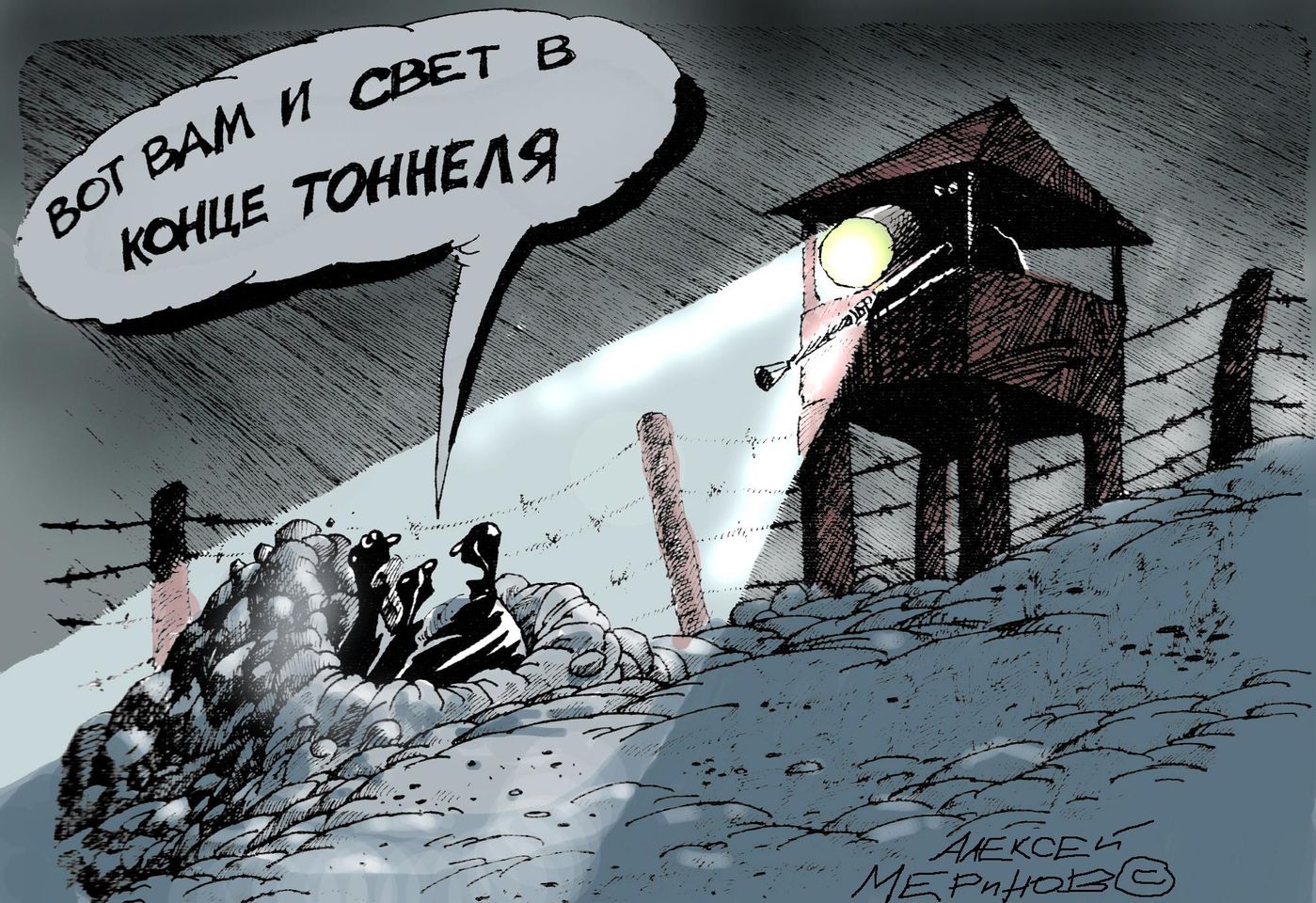заливами долгий вязкий штиль, какой бывает перед штормом. Сейчас ветерок был небольшим и ласковым, рожденным специально для того, чтобы гладить котенка и щекотать затылки подсолнухам. Ветерок дул с востока. Макс сидел на заднем дворе унаследованного от бабки дома, курил, смотрел на красный закат, на котенка, игравшего у его ног с дохлой осой, на подсолнухи у забора, повернувшиеся к закату лицом. Макс не сажал подсолнухи – они выросли этим летом сами, на том же месте, где росли всегда, еще при бабке. Макс не мог отделаться от мысли, что появление подсолнухов как-то связано с бабкой. Он был почти уверен, что подсолнухи – бабкиных беспокойных рук дело: налетела восточным ветром, пока спал, бросила в землю несколько семечек, да и была такова. Может быть, даже поправила на нем, спящем, одеяло – да он не услышал.
В воздухе отчетливо пахло яблоками. Ехать на вахту не хотелось. Хотелось бесконечно сидеть на заднем дворе, смотреть на спелый закат, на котенка, подсулнухи и стрекоз, что с треском выгрызали из яблочного воздуха каких-то мелких крылатых сикарашек. Макс затушил окурок, выбрался из шезлонга, сгреб юного кота – подарок соседки Анны – и отнес его в дом. Затем запер дверь на старый нож без рукоятки, вставив его в проушины утраченного засова – и поехал в порт, на работу.
* * *
– Бывают же у людей чудеса, – сказала Анна, – не то что.
Вечер обещал ни в коем случае не становиться томным. У хозяйки «Синего Ары» наблюдалось плохое настроение, что бывало в последнее время не так уж и редко. Никто из завсегдатаев кафе не ведал причины, заставляющей Анну то грустить, то раздражаться, то грустить и раздражаться одновременно. Если спросить, не ответит, но не молчать же. Всегда лучше спрашивать, что случилось, даже если не ждешь никакого другого ответа, кроме «ничего».
– Что случилось, Анна? – спросил Жмых.
Он пришел в кафе первым, буквально две минуты назад, но уже понял, что Анна опять не в духе.
Вопреки умозрительному прогнозу Жмыха, Анна не стала применять термин «ничего», низводящий проблему на уровень бытовой глупости.
– Чуда хочется, – ответила Анна.
И добавила язвительно:
– Знаете ли.
– Какого чуда именно? – уточнил Жмых.
– Ай, да какая разница, – Анна махнула рукой, – любого уже. А то живём, как не знаю. Одинаково. Да налейте уже себе кофе, что вы встали, как…
Анна поймала себя за язык, когда с его кончика уже готово было сорваться слово «осёл».
– Как осёл? – угадал Жмых.
– Нет, – поспешно сказала Анна, – я хотела что-нибудь другое сказать.
– Что, например?
– Забыла.
– Вот было бы интересно, если б вспомнили, – сказал Жмых, наливая себе кофе, – скажете, если вспомните?
Анна с изумлением посмотрела на Жмыха.
– Вы ко мне прицепились, – сказала она, – причем, уже не в первый раз замечаю.
– Да ладно, – деланно удивился Жмых, – сроду ни к кому не цепляюсь. А вот вы злюка в последнее время.
– А вы, – сказала Анна.
– Осёл? – подсказал Жмых.
В треугольнике между Анной, дремлющим гиацинтовым арой и Жмыхом летали первые, но уже довольно опасные искры, когда дверь отворилась и в кафе вошли Владыч и Соник.
– Привет, – сказал Соник.
– Привет, – сказал Владыч.
– Привет, – сказал Жмых.
– Привет, – встрепенулся ара, – Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет.
– Арочка, – сказала Анна, – закрой пасть.
– Осёл, – сказал попугай и замолчал.
– Так, – сказал Соник, – всем занять свои места и пристегнуть ремни безопасности.
– Видели, какой сегодня закат? – спросила Анна, ни к кому не обращаясь.
– Штормовое на завтра дают, – сказал Владыч.
– У некоторых уже прям сегодня ветрено, – сказал Жмых, – и волны с перехлёстом.
– Так, – сказал Соник, – кто-то не пристегнулся.
– Всё, – Жмых поднял руки жестом сдающегося в плен, – я молчу. Но если что, я здесь, рядом.
И занял свое привычное место в кресле – за столиком у окна.
Посреди крошечного кафе повисла и растопырилась – от стены до стены, от пола до потолка – глупая, некрасивая, неловкая пауза.
* * *
Вопреки расхожему мнению, что тайна перестает быть тайной, когда про нее узнаёт всего лишь второй человек, о регулярном сообщении «Иерусалим-Южнорусское Овчарово-Иерусалим» несколько лет знали только Ник и Белый. Ни тот, ни другой не делились с общественностью секретной дорогой; у каждого на то были свои причины. Ник опасался, что хрупкая коммуникация с Овчаровым попросту прекратит быть, если ею воспользуется человек праздный, случайный, сам не понимающий, зачем он поперся в чужую деревню через дырку в храме. Еще опаснее, если в дыру полезут люди, желающие поглумиться над задрипанностью Овчарова, о котором в Википедии написано только то, что в нем имеются рыболовный флот, госпиталь для тюленей, а также писатель Ларион Белый и художник-монументалист Александр Васильев. С художником Ник, к слову, знаком не был. Он вообще никого не знал в Овчарове, кроме Белого и бабы Люды, вылечившей его когда-то от пневмонии. Ник очень хотел, чтобы баба Люда пролезла к нему в гости, но понимал, что подобная физкультура для пожилой женщины слишком суровое испытание; он горевал по этому поводу до тех пор, пока не догадался пригласить её общепринятым способом, просто оплатив небогатой пенсионерке билеты на самолет.
Что касается Белого, то он никому не рассказывал об альтернативных способах попадания в Иерусалим просто потому, что точно также никого не знал в Овчарове – кроме соседки бабы Люды, которая уже дважды слетала в Иерусалим и даже съездила с Ником и его родителями в Эйлат. Баба Люда знала, что Белый часто бывает в Израиле; кроме того, несколько раз в год в Овчарове бывал Ник, но, разумеется, пожилая женщина была уверена, что оба они используют в своих челленджах обычный пассажирский транспорт. С остальными людьми за пределами Иерусалима и еще двух-трёх городов планеты у Белого были вежливые и очень аскетичные отношения, ограниченные парой десятков слов вроде «спасибо», «пожалуйста» и «здравствуйте».
Но однажды, возвращаясь в Овчарово, Белый выпал из Сиро-Яковитского придела не в яму на пустыре заброшенной стройки, не в канализационный люк на центральной площади – как уже не раз бывало, – а в наглухо заколоченный ящик, по тесноте похожий на гроб, поставленный, однако, строго вертикально. Очутившись в душной и глухой темноте, Белый вначале не слишком испугался – ведь все возвращения всегда заканчивались благополучно; паниковать он начал лишь тогда, когда ощупал свое гробоподобное узилище сверху донизу и пришел к выводу, что выхода из него нет. Свободного пространства хватало только на то, чтобы сесть, подтянув колени к подбородку. Если же стоять стоя, то можно было вытянуть руки вверх, слегка согнув их в локтях. Белый затосковал через десять минут, а еще через полчаса принялся колотить в стенки гроба, поддавшись панике и забыв экономить кислород, как строго-настрого рекомендовано всем, кого случайно похоронят заживо.
Не было никаких оснований надеяться, что гроб – чем бы он ни был в реальности – находится в Южнорусском Овчарове; более того, – он вообще мог находиться не