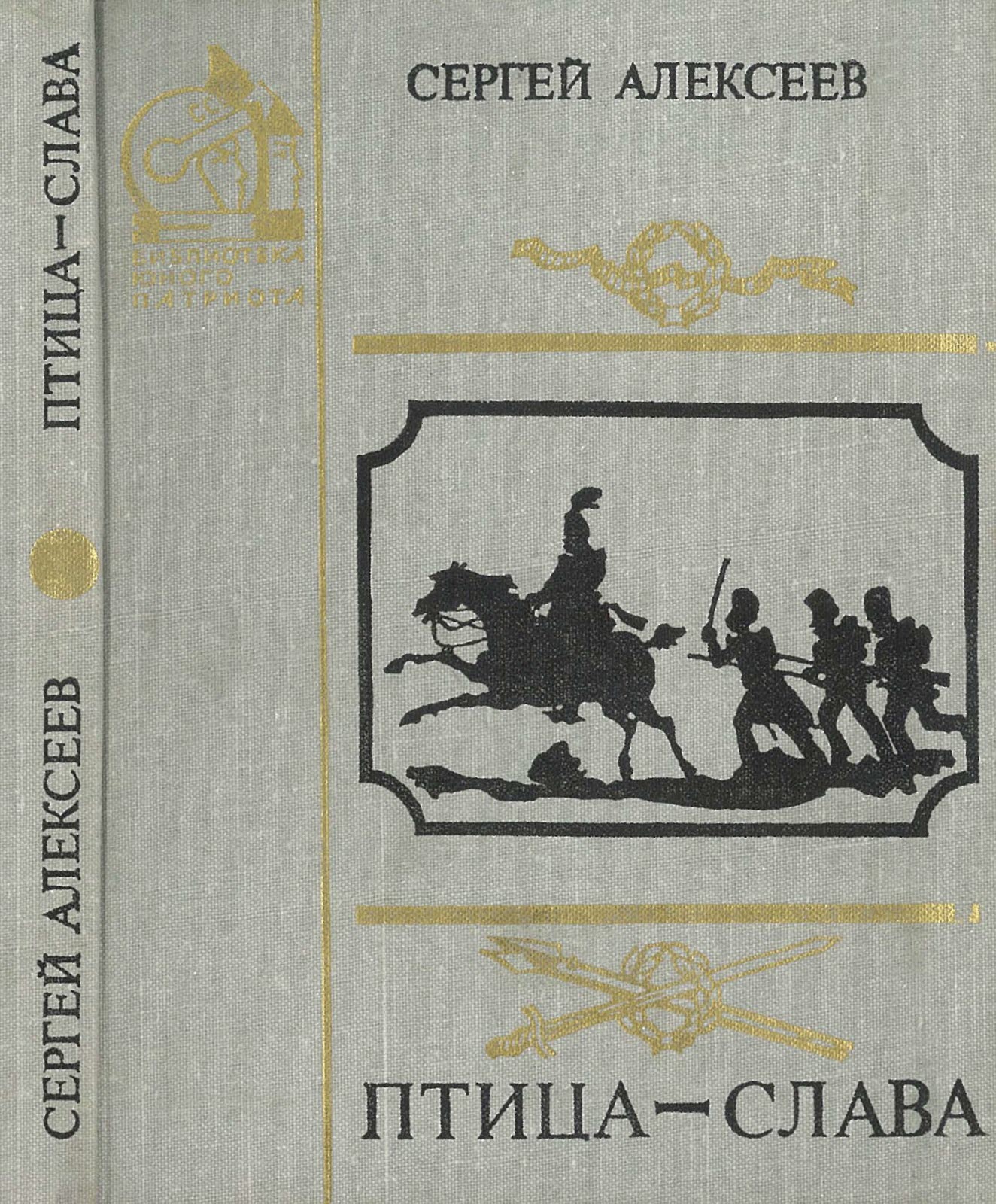через сорок присоединится к вам.
Кунда раскланялся и вышел в ту же ярко освещённую дверь. Миновав два шлюза, в аппаратной оперблока профессор остановился у прозрачной стены операционной и взглянул на зелёный индикатор внутренней связи.
— Мюр Ааль, готовы? Далия? — окликнул он женщин за стеклом.
— Да, профессор, — откликнулась Вера, — сонологию Вам на аласкоп?
— Нет, давайте, сразу модель.
— Аппаратура — да. Анализы — норма. Замечания — нет, — объявила ассистентка Веры. — Далия готова, мил Кунда.
— Далия, начинайте. Мюр Хомут, сейчас Далия введёт вам зеркало и имплантирует эмбрион. Всё под контролем. Как слышите? — Кунда следил за показаниями над трёхмерной оломоделью внутренних органов пациентки.
— Слышу хорошо, фес Кунда, спасибо! А ошибки быть не может? Это мой, точно?
— Что вы, что вы, мюр Хомут! Там на соломинке — и номер, и фамилия, и, плюс ко всему, я им всем даю прозвища. Так что не волнуйтесь, это 1КAД377183, Камачо. Просто потрясающий экземпляр! Не перестаю им восхищаться! Ваш Рондо. А Клоуна мы заморозили.
Автобус до Шереметьева сломался по дороге. Борис перенервничал. Он и так с вечера томился ожиданием — второй день на валидоле. В аэропорту за полчаса до начала регистрации на рейс к стойке уже протянулся извилистый людской ручей. Молчаливые бородачи в длинных чёрных сюртуках и шляпах, возмущённые толстяки в рубашках и ермолках, улыбчивые смуглые брюнеты в пиджаках и джинсах и мамаши с детьми на руках, без устали пересчитывающие чемоданы, сумки и тюки, навьюченные на тележки для багажа.
Борис оставил в очереди чемодан и, предупредив жестом впередистоящего араба, отошёл присесть. Кресло скрипнуло дерматином, поколебав сидящего рядом гражданина с развёрнутой газетой «Советская культура» в руках. Бориса привлёк заголовок, разорванный текстом статьи: «Опять» и «о карандашах». В статье писалось, видимо, о театре. «В последнее время угрожающе растёт стремление ставить спектакли (и высказываться в них) так, как будто мы уже примирились с мыслью, что место актёра в театре будущего — это даже не третье (после режиссёра и художника), а какое-нибудь двадцать третье — где-то между софитами и всемогущим сценическим кругом…» Гражданин в тяжёлых очках и сединой в бакенбардах перевернул страницу. Борис отвернулся. Напротив пограничного контроля пёстрая толпа фотографировалась под вывеской: «Выход Exit». Пожилая дама плакала, держа за руку парня с каменным лицом. Он обнимал за талию девушку в фиолетовой водолазке и чёрных брюках клёш. Позади них громоздились весёлые молодые лица. Слева кучковались растерянные мужчины в мятых брюках, кожаных куртках и вельветовых пиджаках. Один из них опирался на костыли.
— Кого-то выпустили, — усталый голос гражданина с бакенбардами смешался с шорохом газеты. — Рефьюзники, — пояснил мужчина в ответ на вопросительный взляд Бориса. — Вы нет?
— Нет! — отрезал Борис. Он смутился, заволновался, лихорадочно обдумывая ответ. Предостережения и страшные истории про агентов КГБ сменялись порывами убежать и спрятаться. — Нет, я на лечение, сердце у меня… И бабушка.
— Не волнуйтесь, — усмехнулся гражданин, поняв, очевидно, подозрения Бориса, — и не волнуйте бабушку. Регистрация начинается. — Он показал свёрнутой газетой на стойку, встал и зашагал в зону прилёта.
На пограничном контроле Борис оробел. Сержант в фуражке с зелёной тульей долго и с презрительным спокойствием рассматривал загранпаспорт.
— Цветков? — вяло поинтересовался пограничник.
— Так точно! — подобрал живот Борис.
Сержант блеснул глазами, как психиатр, определившийся наконец с диагнозом, и просунул под стеклом паспорт со вложенным билетом. Борис обмяк, еле слышно спасибкнул и пересёк границу.
В самолёте хлопали крышки багажных полок, звучали приглушённые разговоры на иврите, арабском, английском, немецком и возбуждённая речь на русском. Спинки сидений с журналами в тряпочных кармашках скрыли от Бориса салон и людей. Борис расслабился и смаковал беззаботность. За иллюминатором суетились грузчики, между самолётов сновали автомобили с оранжевыми маяками на крышах, у трапов толпились пассажиры.
Кресло качнулось, и рядом сел араб неопределённого возраста. Нестарый, со впалыми щеками, но с пузцом. Бежевый пиджак поверх светлой клетчатой рубашки и зелёные брюки.
— В Тель-Авив или в Вену? — Его трогательный акцент и примитивная грамматика располагали на доверительный лад.
— Тель-Авив, — смутился Борис, — к бабушке.
Пока араб распространялся о политике, командир пробубнил по громкой связи свои формальности, рассказал, сколько лететь до Вены и какая там погода. Самолёт тронулся и медленно покатил вдоль аэропорта. В начале взлётной полосы остановился на несколько секунд — будто присел на дорожку. Турбины затрубили гимн мощности и понесли белые крылья над взлёткой. Борис смотрел на уходящие вниз деревья, на прозрачную даль под облаками и думал, что прошлое осталось на земле, а будущее начнётся только после посадки; сейчас же само его бытие под вопросом, и хочется неожиданных необычностей — праздника и приключений.
— Вы насовсем? — Араб строго сдвинул брови.
Борис пожал плечами, не осознав вопроса.
— Если останетесь, вас возьмут в армию, — поморщился араб.
— У меня сердце, — уточнил из правдолюбия Борис, и завязался нежелательный разговор.
— Вы не понимаете, — араб сел в полоборота к Борису, — весь Израиль — одна сплошная армия. Там вообще нет ничего, кроме армии. Любая мелочь, каждый пустяк выполняется отдельным родом войск. Даже в аду солдаты Цахала не находят покоя. Они воюют и воюют против моего народа, против меня!
Араб вскочил с места. Из-под расстёгутой рубашки вслед за его рукой взметнулись два провода — красный и синий. Они оканчивались коробочкой в кулаке.
— Свободу Палестине! — остервенело кричал араб, размахивая кулаком и держа большой палец над красной кнопкой.
У Бориса закружилась голова и заболела грудь. Он тяжело дышал и сползал вниз по креслу. В глазах потемнело…
Плотный тюль рассеивал дневной свет по больничной палате. С размеренным шипением работал аппарат, помагая Борису дышать. «Наверное мне уже сделали операцию на сердце. Араб с бомбой — бред под наркозом», — усмехнулся Борис, но губы его под пластмассовым «намордником» остались неподвижными. Он пробовал улыбнуться, но тщетно. Борис всполошился. Повращал глазами, силился двигать руками и ногами — безрезультатно. Слушался только указательный палец на левой руке. Борис скосил взгляд вдоль тела. Простыня, пододеяльник и одеяло едва отличались друг от друга оттенками цвета хаки.
Дверь энергично распахнулась, и в палату ввалилась толпа военных. Старший офицер потряс бесчувственную руку Бориса:
— Сынок, запомни этот счастливый день! Сегодня ты вступаешь в ряды Армии обороны Израиля!
Борис запротестовал про себя, но лишь бешено задёргал работающим пальцем.
— Ты в прекрасной форме, солдат! — восхитился офицер и дал знак подчинённым.
Над Борисом склонились два чина помладше. Борис прочитал на шевроне одного из них слова на иврите: «Израильские кнопочные войска». Молодцы засунули его палец в продолговатый