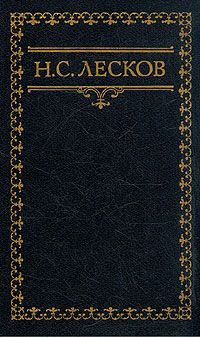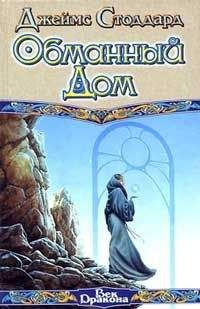Глава восемьдесят третья
С этой поры я, милостивые государи, увидел себя не только помешанным, но даже в силках, от которых так долго и ревностно отбивался. И пребывал я совсем отуманенный на заседаниях, на обедах, даваемых, по здешнему выражению, с «генералом Перловым»; был приглашаем «на генерала Перлова» и утром, и вечером я слушал, как он жестоко казнил все и всех. Сам я больше молчал и отзывался на все только изредка, но представьте же себе, что при всем этом… меня из губернии выслали. Что, как и почему? ничего этого не знаю, но приехал полицеймейстер и попросил меня уехать. Ходил я за объяснениями к губернатору – не принял; ходил к Фортунатову – на нервы жалуется и говорит: «Ничего я, братец, не знаю», ходил к Перлову – тот говорит: «Повесить бы их всех и больше ничего, но вы, говорит, погодите: я с Калатузовым поладил и роман ему сочинять буду, там у меня все будет описано».
Навестил в последний вечер станового Васильева в сумасшедшем доме. Он спокоен как нельзя более.
– Как же, – говорю, – вы это все сносите?
– А что ж? – отвечает, – тут прекрасно, и, знаете ли, я здесь даже совершенно успокоился насчет многого.
– Определились?
– Совершенно определился. Я христианство как религию теперь совсем отвергаю. Мне в этом очень много помог здешний прокурор; он нас навещает и дает мне «Revue Spirite».[19] Я проникся этим учением и, усвоив его, могу оставаться членом какой угодно церкви; перед судом спиритизма религиозные различия – это не более как «обычаи известной гостиной», не более. А ведь в чужом доме надо же вести себя так, как там принято. Внутренних моих убеждений, истинной моей веры я не обязан предъявлять и осуждать за иноверство тоже нужды не имею. У спиритов это очень ясно; у них, впрочем, все ясно: виноватых нет, но не абсолютно. Преступление воли карается, но кара не вечна; она смягчается по мере заслуг и смывает преступления воли. Я очень рад, что мне назначили этот экзамен здесь.
– Будто, – говорю, – ваше спокойствие нимало не страдает даже от здешнего общества?
– Я этого не сказал, мое … Что мое, то, может быть, немножко и страдает, но ведь это кратковременно, и потом все это плоды нашей цивилизации (вы ведь, конечно, знаете, что увеличение числа помешанных находится в известном отношении к цивилизации: мужиков сумасшедших почти совсем нет), а зато я, сам я (Васильев просиял радостью), я спокоен как нельзя более и… вы знаете оду Державина «Бессмертие души»?
– Наизусть, – отвечаю, – не помню.
– Там есть такие стихи:
От бесконечной единицы,
В ком всех существ вратится круг,
Какие б ни текли частицы,
Все живы, вечны, вечен дух!
Бесконечная единица и ее частицы, в ней же вращающиеся… вы это понимаете?
– Интересуюсь, – говорю, – знать от вас, как вы это понимаете?
– А это очень ясно, – отвечал с беспредельным счастием на лице Васильев. – Частицы здесь и в других областях; они тут и там испытываются и совершенствуются и, когда освобождаются, входят снова в состав единицы и потом, снова развиваясь, текут… Вам, я вижу, это непонятно? Мы с прокурором вчера выразили это чертежами.
Васильев вынул из больничного халата бумажку, на которой были начерчены один в другом три круга, начинающиеся на одной черте и затушеванные снизу на равное пространство.
– Видите: все, что темное, – это сон жизни, или теперешнее наше существование, а все свободное течение – это настоящее бытие, без кожаной ризы, в которой мы здесь спеленуты. Тело душевное бросается в затушеванной площади, а тело духовное, о котором говорит апостол Павел, течет в сиянии миров. После каждого пробуждения кругозор все шире, видение все полнее, любовь многообъемлющее, прощение неограниченнее… Какое блаженство! И… зато вы видите: преграды всё возвышаются к его достижению. Вы знаете, отчего у русских так много прославленных святых и тьмы тем не прославленных? Это все оттого, что здесь еще недавно было так страшно жить, оттого, что земная жизнь здесь для благородного духа легко и скоро теряет всякую цену. Впрочем, в этом отношении у нас и теперь еще довольно благоприятно. Да, да, Россия в экзаменационном отношении, конечно, и теперь еще, вообще, наилучшее отделение: здесь человек, как золото, выгорал от несправедливости; но вот нам делается знакомо правосудие, расширяется у нас мало-помалу свобода мысли, вообще становится несколько легче, и я боюсь, не станут ли и здесь люди верить, что тут их настоящая жизнь, а не… то, что здесь есть на самом деле…
– То есть?
– То есть исправительный карцер при сумасшедшем доме, в который нас сажают для обуздывания нашей злой воли.
«Прощай, – думаю, – мудрец в сумасшедшем доме», и с этим пожелал ему счастия и уехал.
Глава восемьдесят четвертая
Через сутки я был уже в Москве, а на третий день, усаживаясь в вагон петербургской дороги, очутился нос к носу с моим уездным знакомцем и решительным посредником Готовцевым.
– Батюшка мой? Вас ли я вижу? – восклицает он, окидывая меня величественным взглядом.
Я говорю, что, с своей стороны, могу более подивиться, он ли это?
– Отчего же?
– Да оттого, что вы так недавно были заняты службой.
– Полноте, бога ради; я уж совсем там не служу; меня они, бездельники, ведь под суд отдали.
– За школы?
– Представьте, да, за школы. Прежде воспользовались ими и получили благодарность за устройство, а потом… Подлец, батюшка, ваш Фортунатов! Губернатор человек нерешительный, но он благороднее: он вспомнил меня и сказал: «Надо бы и Готовцева к чему-нибудь представить». А бездельник Фортунатов: «Представить бы, говорит, его к ордену бешеной собаки!» Ну не скот ли и не циник ли? Пошел доказывать, что меня надо… подобрать… а губернатор без решимости… он сейчас и согласен, и меня не только не наградили, а остановили на половине дела; а тут еще земство начинает действовать и тоже взялось за меня, и вот я под судом и еду в Петербург в министерство, чтоб искать опоры; и… буду там служить, но уж это чертово земство пропеку-с! Да-с, пропеку. Вы как?
– Со мной, – хвалюсь, – поступили тоже не хуже, чем с вами, довольно решительно, – и рассказываю ему, как меня выслали.
Готовцев сатирически улыбнулся.
– И вы, – говорит, – этакую всякую меру считаете «довольно решительною»?
– А вы нет?
– Еще бы! Я бы вас за это не выслал, а к Макару телят гонять послал.
– Но за что же-с? позвольте узнать.
– А-а! не участвуйте в комплотах. Я вам признаюсь, ведь все ваше поведение для меня было всегда очень подозрительно; я и сам думал, что вы за господин такой, что ко всем ездите и всех просите: «посоветуйте мне, бога ради», да все твердите: «народ, села, села, народ»… Эй, вы, вы!.. – продолжал он, взглядывая на меня проницательно и грозя мне пальцем пред самым носом. – Губернатора вы могли надувать, но уж меня-то вы не надули: я сразу понял, что в вашем поведении что-то есть, и (добавил он в другом тоне) вы если проиграли вашу нынешнюю ставку, то проиграли единственно чрез свою нерешительность. Почему вы мне прямо не высказались?
– В чем-с, милостивый государь, в чем?
– Конституционалист вы или радикал? Выскажитесь вы, и я бы вам рискнул высказаться, что я сам готов сюда Гамбетту, да-с, да-с, не Дерби, как этот губернатор желает, а прямо Рошфора сюда и непримиримого Гамбетту сюда вытребовать… Я самый решительный человек в России!
– Нет, позвольте уж вас перебить: если на то пошло, так я знаю человека, который гораздо решительнее вас.
– Это кто?
– Генерал Перлов; он прямо говорит, что если б его воля, то он всю Европу бы перепорол, а всех нас перевешал бы.
– Да… но вы забываете, что ведь между нами с Перловым лежит бездна: он всех хочет перевешать, а я ведь против смертной казни, и, в случае чего-нибудь, я бы первых таких господ самих перевешал, – отвечал, отворачиваясь, Готовцев.
Живу затем я целое лето в Петербурге и жду денег из деревни. Скука страшная: жара, духота; Излер и Берг, Альфонсины и Финеты, танцы в панталонах, но без увлечения, и танцы с увлечением, но без панталон, порицание сильных и преклонение пред ними, задор и бессилие, кичливость знаниями и литература, получившая наименование «орудия невежества»… Нет, нет, эта страна, может быть, и действительно очень хорошее «экзаменационное отделение», но… я слишком слабо приготовлен: мне нужно что-нибудь полегче, пооднообразнее, поспокойнее. А пока, даст Бог, можно будет уехать за границу; вспомнилось мне, что я художник, и взялся сделать вытравкой портрет Дмитрия Петровича Журавского – человека, как известно, всю свою жизнь положившего на то, чтоб облегчить тяжелую долю крестьян и собиравшего гроши своего заработка на их выкуп… Как хотите, характер первой величины, – как его не передать потомству? Сделал доску и понес ее в редакцию одного иллюстрированного издания. «Дарю, мол, вам ее, – печатайте».