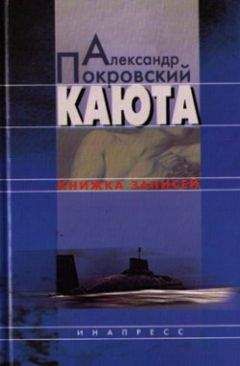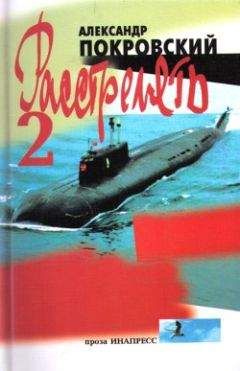Сначала у них вовсю отслаивалась слизистая желудка и кишечника, потом - прямой кишки, а затем уже и клоаки.
Бортпаек в них впихнуть не удалось - в перекрестие не попадал. Фельдшер пришел, посмотрел, покачал головой, перевернул баб, сдернул им штаны и вкатил каждой лошадиную дозу какого-то противозачаточного средства, которое вроде бы помогает при качке.
Их потом отскребли, как ошвартовались, и на носилках вынесли.
Х-хэ-хэ! Бортпаек они мечтали у нас оттяпать. Губешки
раскатали. Примчались и слюнями изошли. Кататься сначала научитесь! Пис-сатели.
Глава вторая, фантастическая
Служить хочется. А гальюнов нет! Сейчас, наверное, делают уже, а на старых катерах, извините, не наблюдается. Забыли-с. Не запрограммированы были наши катера на то, что народ наш может обгадиться на полном ходу за краткое время торпедной атаки.
Поэтому наш народ отправляется подумать по-крупному на корму в тридцать два узла, если уж очень приспичит и окончательно прижмет.
Со спущенными штанишками это выглядит лучше, чем американское родео.
Их ковбои вонючие на своих ручных бычках - это ж дети малые и сынки безрукие. А вот наш брат в рассупоненном состоянии, напряженно прогнувшись сидящий, бледно издали снизу блестящий, растаращенно четко следящий, чтоб из него при соскальзывании паштет не получился - вот это да! Это кино. Картина. Ее лучше смотреть со стороны.
Скорость дикая, катер летит, буруны взрываются, а он сидит, вцепившись, торжественный, а над ним за кормой вал воды нависает шестиметровый, в который он кладет не переставая.
Вот вы видели, чтоб на водяных лыжах лыжнику приспичило подумать по-крупному? Ну, и как он все это будет делать?
Все свободные от вахты выстраиваются посмотреть. Корма покатая, перелезаешь через леера, и кажется, что винты палубу у тебя рвут из-под ног. Штанишки осторожненько одной рукой спущаешь: сначала одну штанишку, потом перехват мгновенный и тут же другую. И главное, чтоб штанцы твои ниже коленок не рухнули, а то, .если поворот, то придется со спущенными штанишками через леера кидаться и бежать опрометью стремглав, а то вал-то нагонит с разинутой
пастью и промокнет попку до самых подмышек гигантской промокашкой. А она и так, понимаешь, в точке росы вся в слезах.
Между булочек потом потер бумажечкой, если совсем, конечно, не намокла, и ныряй через леера.
Я вам все это говорю, между прочим, для того, чтоб прониклись вы, почувствовали и представили, как на катерах служить здорово.
А однажды вот что было. Пошел с нами море конопатить один пиджак придурочный из института. Погода чудная, мы уже часа четыре на скорости, и вдруг приспичило ему, понимаете? Видим, ищет он чего-то. Ходил-ходил, искал, наконец спрашивает, мол, а где тут у вас - экскюз ми - гадят по-крупному. Ну, мы ему и рассказали и показали, как это все происходит: кто-то даже слазил, продемонстрировал. Посмотрел он и говорит:
- Да нет, я уж лучше потерплю. Ну терпи. Еще чуть-чуть немножко времени проходит - видим, тоскует человек, пропадает. Ну, мы его и подбодрили, мол, давай, не смущайся, все мы такие, бакланы немазаные, с каждым бывало.
Ну и полез он. Только перелез и за леер уцепился, как, на тебе, поскользнулся и, не выпуская леер, выпал в винты, но, что интересно было наблюдать, - чтоб ножки не откусило по самый локоток, он успел-таки изяш-но изогнуться и закинуть их на спину. Прямо не человек, а змея, святое дело! В клубок свернулся.
Вытащили мы его: дрожит, горит, глаза на затылке. Успокоился, наконец, штанишки снял аккуратненько одним пальцем, потому как нагадить-то он успел, положил их отдельной кучкой и стоит, отдыхает, а в штанцах
- полный винегрет. Боцман ему говорит:
- Ты, наука, не двигайся, а то поливитамином от тебя несет. Стой на месте спокойно, обрез с водой принесем помоешься, а штанцы твои мы сейчас ополоснем, рыбки тоже кушать хочут.
С этими словами подхватил их боцман через антапку
за шкертик, и не успела "наука" удивиться, как он - швырь! - их за борт и держит за шкертик, полоскает.
Дал боцман конец шкерта этому дурню старому и проинструктировал:
- Считай, наука, до двадцати и выбирай потихоньку.
Я уж не знаю, то ли этот ученый выбирал не почеловечески, то ли он, наоборот, потравил слегка, но только штанцы под вянцы затянуло. Ученого еле оторвали.
А обрез мы ему принесли. Ничего, помылся. Может, мне сейчас скажут: вот это заливает, во дает, вот это загибает салазки.
А я вам так скажу, граждане: не служили вы на катерах!
Циклоп
Ровно в три ночи, когда созвездие Овна вместе со всеми остальными созвездиями занималось на небе своими делами, Архимед Ашотович Папазян, по прозвищу Усохший Тарзан, сел на кровати с криком: "Только не бей!" - "Только не бей", повторил он значительно тише и затравленно оглядел свою холостяцкую комнату, еще секунду назад спокойную, как общественная уборная. Мама больше не приходила к нему во сне. Мама не звала его больше "джана", и душа больше не наполнялась радостным, светлым детством, все было отравлено и чесалось. Ему снился циклоп. Каждую ночь. Он бежал, выпучившись, в запутанных джунглях, подпрыгивая винторогим козлом, а ветви гоготали и цеплялись. И рука. Огромная рука, беззвучно вырастая, тянулась за ним. На многие километры. Он чувствовал ее леденевшим затылком. Нет сил! Нет сил бежать! Остановился. Повернулся. Задранный ужас! Невозможно кричать! К горлу бросились растущие пальцы с грязными обломанными ногтями. Огромные складки потной кожи. "Только не бей!!!"
Свет зажегся, и с носа закапало. Потом. Очки наделись, и глаза через них тут же пушисто захлопали. Архимед Ашотыч всклокоченно обернулся на одухотворенное лицо лорда Байрона, намертво приделанного к обоям, и, поискав в волосатых складках живота, зачарованно замер, как собака, принимающая сигналы блохи. В тишину ночную вплетались только торопливые курлыканья унитаза, да на кухне в одиночку веселилась радиоточка. Архимед Ашотыч застонал переполненным
страдальцем, запрокинул голову с уплывающими за горизонт зрачками, успел увидеть потолок с забитыми комарами и бережно уложил себя на подушки. Пружины заезженной койки вздохнули народным музыкальным инструментом, веки затяжелели, члены замягчели с каждым вздохом, и в бренное тело снова хлынули сновидения. Голубой пеньюар. Лампадная ночь. Тучи запахов. Фимиамы. Грациозные прыжки, перепархивания, улыбки-пожатья, персичный румянец от подглазников до подбородка, кофе, тонкие чувства, полные, гладкие колени, ощущение от которых остается в руках, караванные
движения дивана, в короткой борьбе возня пружинная и сытая тишина.
Самый отвратительный звук для такой тишины - звук ключа в замочной скважине. Возникает обостренное чувство долго поротого.
Звук возник, пеньюар, завизжав раздавленной торговкой, вспорхнул, оставив Архимеда одного оплакивать себя.
Архимед Ашотыч вскочил и заметался по комнате так, будто он затаптывает стадо неприятельских тараканов. В конце концов, ничего не придумав, он юркнул в шкаф, убеждая стартерно) заработавший желудок помягче мяукать, и затих там платяной молью.
В дверях стоял циклоп! Пойманный за лацканы пеньюар перестал визжать уже в табурете. В комнате ходило только кадило. Маятника.
Глаз у циклопа было два, но они так близко росли и выглядывали друг от друга, что если посмотреть взволнованно, то сливались в один; череп пещерного медведя, чугунная нижняя челюсть, нос и общая физиономия викинга, получившего веслом по голове: тяжелый, пышущий убийством квадрат.
Желудок Архимеда Ашотыча совсем уже собирался взять и чем-нибудь разрядить обстановку, когда долго колебавшаяся дверь шкафа решилась и, закатив задумчивую трель, верноподданнически открылась.
"А-а..." - сказал "квадрат", увидев в платьях живое, и шагнул всего один раз.
Архимед Ашотыч, выставив вперед ручонку, заерзал, совершая ею фехтовальные движения до тех пор, пока рука циклопа не протянулась медленно и не достала Архимеда не поймешь за что. Архимед Ашотыч развевался в той руке ящерицей круглоголовкой всего одну секунду.
"Только не бей!" - взял он самую последнюю ноту самой последней октавы, с иканьем перебрав всю клавиатуру. Грянуло! Прямо в лоб, туда, где кость. Горный обвал. Сель. Архимед Ашотыч быстро улетел по воздуху и, погасив все вешалки в шкафу, оторвал внизу щелкнувшими зубами кусок пурпурного платья. Все волосы на груди, собравшись в пучок, дружно болели.
"Только не бей!!!" Свет уличного фонаря отразился в страдальческом оскале, щетинистый кадык проглотил, наконец, душившие его слюни. В окно смотрела ночь, и Архимед Ашотыч, только теперь понявший, что как все-таки хорошо, что он жив, жив! упал в подушки и мелко залился, закатился счастливым щебечущим смехом, вздрагивая плечами в волосатых эполетах.
В небесах горел Воз, однажды в шутку названный Медведицей, и лорд Байрон из другого века смотрел с обоев, возвышенный и одухотворенный.