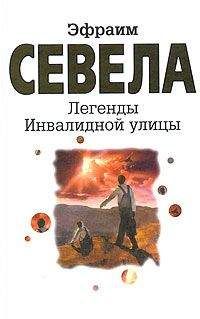— Барин правильный, шутник… Конечно, нелегко тогда жилось. А вам — полегче. Ну, а теперь всем клин единый.
Мушкин держался сдержанно. Покойно, и как с равными. Когда же к нему поселили молодого коммуниста Муню, он вдруг рассердился, и пришел к нам жаловаться.
— Лоботряса мне доставили, Георгий Александрыч.— Морда во, кровь с молоком, как говорится, а уж пулю получил, где-то на фронте, и на излечении был, видите-ль… Так теперь ко мне вселили. К потомственному рабочему завода Гужона. Прямо лоботряс и есть.
Но Мушкин был чрезмерно мрачен.
Верно, Муня краснолиц, велик, и возмутительно здоров, и правда, что приехал с фронта — собирался же учиться живописи, не был виноват, что так силен, и что его вселили именно к потомственному пролетарию. Ходил в шинели, на ногах обмотки; черные слегка курчавые на голове волосы, и щеки в огненном румянце.
Он малым был доволен, спал в проходной комнатке, шинели не снимал, курил, валяясь на складной постели, и таскал дрова. За меня чистил снег на улице. Подметал комнаты. Раз, когда нужно было двинуть шкаф с книгами, налег на него так, что старик с покорностью, но и неудовольствием пополз по давно не тертому паркету.
— Хочу учиться, — говорил Георгиевскому, — у вас все об искусстве. Хорошо бы почитать.
Карие глаза и огненные щеки, руки пудовые, имели такой вид. Что всю науку, и искусство, философию он может сдвинуть с той же легкостью, как и сундук, и полсажени дров. Георгиевский относился к нему просто, без высокомерия.
Иной раз, вынося ведро, я видела, как Муня, лежа на постели, шевелил губами над историею живописи, разбирал гравюры в кабинете у Георгиевского.
Столовая принадлежала теперь Мушкину. Он желчно ел там сладковатую картошку, и ворчал.
— Науки все, науки… Георгий Александрович век на этом просидел, а он — на вот тебе… в профессора готовится, что-ли-ча?
Впалыми глазами, с темно-потными кругами, раздражительно он взглядывал на Муню.
Не так далеко уходил Муня в науках, к нам же относился хорошо, хотя я не стеснялась поносить при нем правительство, партию и террор. Он ухмылялся. Приносил сухих дровешек, воблы, как-то съездил за мукой, и в трудную минуту уделил нам.
— Жизнь общая теперь, и новая… Многие думают, что мы разбойники. А мы хотим жизнь лучше сделать.
— Разбойники из вас не все, но большинство.
— Конечно, есть элемент… малосознательный.
И иногда по вечерам, в кабинете Георгия Александровича, происходили заседания и философствования. На передвинутом шкафу маска Петра белела выпуклыми глазами. Хозяин, в валенках, сидел над примусом, где кипяток готовился. Муня печурку раздувал. Маркел на диване, в теплой куртке. Приходил Мушкин.
Мушкин против всего — и Бога, и правительства, и коммунистов, и богатых. Нельзя было понять, чего он хочет. Маркел соединял науку с христианством. Георгий Александрович — за искусство, простоту и личность. Разливая чай, вытаскивая из сундучка своего сахар — уже редкость в ту эпоху — хмуро заявлял Муня, что спасение лишь в коммунизме: отжил старый мир.
За окном ветер рвал февральскою метелью.
Сквозь полузамерзшее окно, в белесом свете видны были елочки, тропинка чрез разобранный забор, шпалерка тоненьких акаций, трепетавших в линии погибшего забора. Я тоже в валенках. Дверь к нам полуотворена. К диванчику приставлены три стула, чтоб тюфяк не падал. Стулья подперты тяжелым креслом, на горизонтальной трубе печки, между лампионов, сушится стиранное днем белье, и в полумгле лампочки Вакханка Бруни на стене, нежная и теплая, в виноградных листьях, улыбается все так же томно-сладострастно на философический бэдлам.
XIII
Морозы выдались порядочные. Мы уже давно сожгли забор, и чтобы дотянуть до теплого, Муня раздобыл ордер на полсажени дров. Но надо их еще завоевать. Маркел был занят, у Георгиевского ангина, мне пришлось отправиться самой.
Дул резкий, солнечно-колючий ветер. Мы с Муней шли проулками под курскую дорогу, а потом садами, новыми тропинками средь фабрик, что на Яузе, и огромных корпусов таможни пробрались к Золоторожской.
Тут еще сильнее, с плаца, жег ветер ножами. Муня крепче нахлобучивал наушники, хлопал рукавицами. Мы подходили к цели.
У небольшого домика стояло несколько розвальней, и люди копошились. За углом старенький сарайчик — несколько человек раскачивало его крышу — с нашим появлением рухнула она, в столбе пыли. Муня показал свой ордер. Как другие, стали и мы, тоже, отдирать добычу. Наняли розвальни. На них тащил Муня усердно доски и шелевку. Что потяжелее, волокли мы вместе. Я была в шубейке, выкроенной из отцовского пальто, в валенках и платке.
Сновали бабы, дети подбирали щепки. Их ругали, но они шныряли, юркали, хватали из-под рук обломки.
Мы работали сначала рьяно. А потом я приустала. Села на уложенную в сани рвань, и огляделась. От сарайчика торчали только ребра, он обглоданный, как будто туша лошадиная, обгрызанная псами. За ним блестело нестерпимо поле снежное — и я мгновенно же узнала это место: вон там роща была Анненгофская — ее свалило ураганом — а правее подымались трубы: столь знакомый мне завод. Да, там в особнячке и жили мы с отцом, и этот красный корпус помню, крышу над прокатной — отец ее построил, и на Золоторожской я бывала. Все знакомое, и все какое новое! Как и отец, завод наш умер: не пылит, не громыхает, трубы не дымят. Быть может, дом наш тоже разбирают на дрова. Мне не хотелось впадать в меланхолию, воспоминанья. Я вздохнула, встала, чтобы вновь приняться за работу.
Сзади проскрипели розвальни. От большой лошади, в пару тень на снегу — со мною рядом. Я обернулась.
Из саней влез человек в барашковой шапке, пальто, подвязанном ремешком, в огромнейших калошах. Полуседая борода, и так знакомо, так уж очень мне знакомо-трепаный кудри из-под шапки.
— Фу ты, Господи! И вы тут… Собственной особою, певица, Наталья Николаевна…
Да, былое возвращалось. Все такой же шумный, темный, с беспокойными глазами, видом русака, Александр Андреич.
— Неужели-ж и вы по дрова? А? Ха-ха-ха…
Он жал мне руки, и смеялся неестественно.
Я подтвердила: за дровами.
— Ах, чорт возьми! Вот жизнь! Вот приключенья! А? Вы не находите? Париж… а, ха-ха… Европы, утонченности, искусства. Впрочем, что-ж, искусство существует. Старый мир рушится, вот вы же и крушите его, это вы ломаете сарайчик… ч-чорт возьми! Ломаем, значит надо. Давненько не видались. Но теперь искусство пойдет новыми путями. Заграницу по боку, я здесь, на родине… и вы не удивляйтесь, я служу, работаю со всеми этими людьми…С новой жизнью. Это ваш товарищ? (Указал на Муню). С ними. Ведь нельзя же вечно со старьем. Европа прогнила, я знаю. Помните, меня уж отпевать собирались? Но теперь я вновь притронулся земли, рабочего народа, и вновь набираю сил…
— Для «них» то надо помоложе.
— Я разве так уж постарел? Ну, это, может, борода седеет, но мой дух все тот же, я работаю как чорт. Я в наилучших с ними отношениях. А вы? Ах, да, интеллигенство и брезгливость, но ведь надо же… вы понимаете — он понизил голос — ведь нельзя же, чтобы сиволапый, вон как этот молодец, стал сразу джентльменом. Но они страшно ценят, если мы, прежние, к ним уважительно. Товарищ, вот мой ордер от Наркомпроса.
Он подал распорядителю бумажку, стал доказывать, что для мастерской больше нужно, чем указано, и в бегающих, растревоженных глазах, ненужной торопливости и ласковости было непокойное: как будто оборвут сейчас.
— Ясно — Муня показал ордер распорядителю. — На полсажени, как и у меня.
— Но я художник, понимаете, ведь я художник, и работаю на республику.
Распорядитель хмыкнул.
— А товарищ кровь за республику поливал. В два счета ясно. Получаете, сколько написано.
Александр Андреич сделал вольт, как-то отъехал.
— Разумеется, — бормотал, — суровы несколько: нельзя же требовать… Вы где живете? Ах, у вас коммуна… Слышал. Георгиевского тоже помню. Да, прошлое прошло, другая жизнь. Георгиевский… Человек знающий, его бы по охране памятников старины…
Муня наложил последние доски в розвальни.
— Ну, больше не поднять.
Мы попрощались. Я влезла на свою добычу. Муня с возчиком шагали рядом. На досках сидеть удобно. Воз покачивался. На раскатах плавно вбок сползал, оставляя за собой зеркально-вытертую полосу. Я цеплялась, и клонилась на другую сторону. В ухабах мягко ухали, концы досок чертили борозду по снегу. Я глядела в небо. Мимо плыли домики. Мы проезжали под мостом Курской дороги, тяжко подымались в горку у Андрония, той самою дорогой, по которой некогда катала я в консерваторию. Теперь за монастырскими стенами концентрационный лагерь. В пятнадцатом столетии там жил Андрей Рублев, писал иконы знаменитые. Сейчас полковники и генералы в нем расплачивались за былую жизнь, по временам сходя в печальные, напитанные кровью подземелия Лубянки.