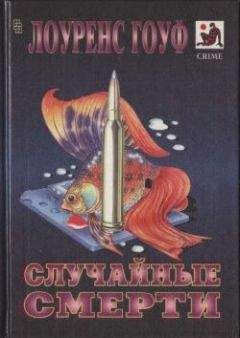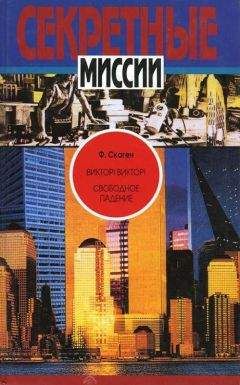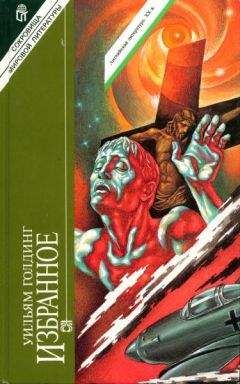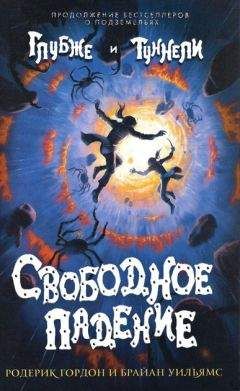не сразу узнал, а когда добрые люди раскрыли глаза, взял с собой пару пацанов, разыскал беднягу, вытащил его из квартиры в одних трусах.
Изобретать ничего не стали, разыграли всё как в девяностые: в багажнике вывезли парня в лес, под дулами пистолетов заставили, утираясь слезами и соплями, выкопать себе яму. Поставили на колени на самом краю. Стах передёрнул затвор «береты», крепко вдавил ствол в затылок бедняги.
Он умел держать паузу. Впрочем, необходимости в этом не было. Уже одной поездки в багажнике было достаточно, чтобы парень осознал свой промах и всю оставшуюся жизнь шарахался от Ларисы как от чумной. Яма, выстрел над ухом, возвращение в город пешком в одних трусах, – всё это был уже перебор, но Стах не смог совладать с эмоциями.
С того случая отношение Ларисы к нему изменилось. Внешне всё было по-прежнему, но чутьём Стах угадывал, – Лариса сменила свою любовь к нему на страх. А может просто время изменило её?
Много времени!
Стах прикурил, криво усмехнулся, роняя с балкона погасшую на лету спичку.
Двадцатник. Точняк!
И что? Выходит, все двадцать лет вёл себя как собака на сене, держал страхом? Чем тебе не цепь?.. Эта мысль и раньше мелькала в голове, но никогда не спускалась туда, где обитает душа.
Раньше он смеялся над всеми этими сентиментальными соплями и лживыми призывами подумать о душе. В последние годы что-то изменилось. Ныло под ложечкой. Стах рассеяно щупал пальцами… Странное место для души.
А всё началось с того, что он неожиданно подсел на шансон. Скажи ему об этом ещё пару лет назад – посмеялся бы. В молодости всё было понятно: рок – музыка молодых, шансон – если отсеять от него блатняк – музыка старпёров.
Стах никогда не мотал срок и не испытывал влечения к блатной романтике. Он просеивал шансон, оставляя из сотни примитивных скороспелых вещей, только то, что вибрировало с той же частотой, что и невидимая мембрана в том месте, где обитает душа.
Шансон был не музыкой – белым флагом, который он, Алексей Стахов, выкинул перед стремительно меняющейся жизнью, перед возрастом. Если ритм рока привычно срывал с места, заставляя бежать и действовать, то шансон будто подсекал на полушаге, заставляя растеряно топтаться на месте и озираться по сторонам. Сердце сжималось и болела душа – до блеска в глазах, до страшного в своей простоте понимания, что сороковник – это черта разделяющая понятия «жить» и «доживать».
Стах ненавидел себя в такие минуты. Раздражённо вырывал из автомагнитолы флэшку, швырял её через плечо на заднее сидение, просил кого-нибудь: «Сотри мне всю эту муру». Уныние сменялось бодростью, жизнь катилась под старый русский рок, но день спустя настроение менялось. Та, что живёт в странном месте, требовала другой музыки, и он снова просил записать ему шансон, любя и ненавидя его одновременно.
В представлении Стаха старость была сестрёнкой старухи-смерти – если не родной, то двоюродной точно. Вместо капюшона неброский платочек, вместо острой косы – старушечий узелок. Не злая такая старушка с милой морщинистой улыбкой и добрыми глазами, но едва повернёшься к ней спиной – превратится в каргу старую: развяжет узелок, разложит колдовские причиндалы, злорадно посыплет на пламя свечи какой-то порошок, прошепчет заклятие, проткнёт иголкой восковую фигурку, и начнутся неприятности.
Полгода назад старушка маякнула. Стах от боли на стены лез, пока приехала «скорая». Сутки провёл в реанимации, – острый приступ панкреатита. Диету и прочие рекомендации врача выдержал всего две недели. На этот счёт у него были свои понятия, и признавал он только два варианта: либо жить, либо нет. А пограничные состояния определялись мерзким словом: су-щес-тво-ва-ние! Чадить и дотлевать как забытый в пепельнице окурок – это не про него. И он жил так как привык, – не оглядываясь на советы и рекомендации.
Спортивному, по-мальчишески гибкому Стаху далеко ещё было до старости, внешне ему никто и сороковника не давал, но старушка продолжала изредка маячить, отравляя жизнь. Здоровье больше не подводило, но с той, что ныла под ложечкой, было что-то не так. Настроение слишком часто менялось – то рок, то шансон, а нестабильность всегда плохой признак.
Мысли об этом приходили чаще всего по утрам, во время бритья. Стах швырял в раковину бритву, отплёвывался от мыльной пены… Какой к чертям возраст?! Какой кризис?!
Зло глядя на себя в зеркало, искал ощупью бритву… Просто засиделся без серьёзного дела. Раскис от безделья!
Да он ещё пацаном себя чувствовал, пока не подмигивала издалека карга старая. И самое страшное – не выйдет с тобой один на один, не примет равный бой – ударит исподтишка. И методами её «подкожными» ответно не воспользуешься, в цейсовскую оптику её седой затылок не поймаешь.
Вздыхая, Стах оторвал предплечья от перил.
– Эй, пацаны, – сказал негромко, но отчётливо. – Разбежались! Люди спят уже.
Кто-то там внизу запетушился:
– А тебе чего?
Но его быстро одёрнули за рукав.
– Идём, – едва слышно донеслось снизу. – Это Стах.
Брякнув напоследок струнами, малолетки нехотя ушли. Стах стрельнул им вслед окурком, глянул, как огонёк рассыпается у земли мелкими искрами, усмехнулся… Кто-то ещё помнит его. Но это только такие вот неприкаянные малолетки в кепках и спортивных костюмах. С видом знатоков они перевирают то, чего не могли видеть по рождению, – криминальную историю девяностых, превращая её в новые городские легенды, сетуя на то, что опоздали родиться.
Стах вернулся в комнату. Хотел пройти в гостиную, но Лариса окликнула его у самой двери:
– Стах!
Он удивлённо обернулся. По кличке Лариса назвала его впервые. Видно допекла её эта жизнь.
– Может, поговорим?
– Через неделю вернусь, поговорим.
– Знаешь, сколько в моей жизни было этих «через неделю»?
– Обещаю, всё будет так, как ты хочешь. Потерпи.
Вышел в гостиную, стал на пороге, глядя на разостланную на диване постель…
А может, пока не поздно, бросить это дело с инкассаторами? К чёрту! Уехать с Ларисой в деревню, где остался от бабушки старый разваливающийся дом. Лес, луга, крутой обрыв над рекой…
Собственно говоря, с этим обрывом и было связано то, из-за чего он ввязался в эту историю с ограблением. Нет, отступать нельзя. Сначала надо сделать то, что блуждающим осколком засело в голове. Не даром говорят: человек обуянный навязчивой мыслью – в голову раненый.
Стах подошёл к дивану, рывком откинул край пледа… К чертям собачьим! Спать!..
С пацанами Чупа свёл на следующий день. Вместо немногословных, уверенных в себе парней перед Стахом предстали два переростка лет двадцати пяти. Неприязнь возникла сразу: Банзая он невзлюбил за широкие рэперские джинсы и бейсболку с прямым козырьком; Шулю – так, за компанию.
– Где ты этих имбицилов нашёл? – тихо спросил он, отведя Чупу в сторону.
– Не парься, – успокоил тот. – Пацаны надёжные: Банзай водила от Бога, а Шулю я в деле