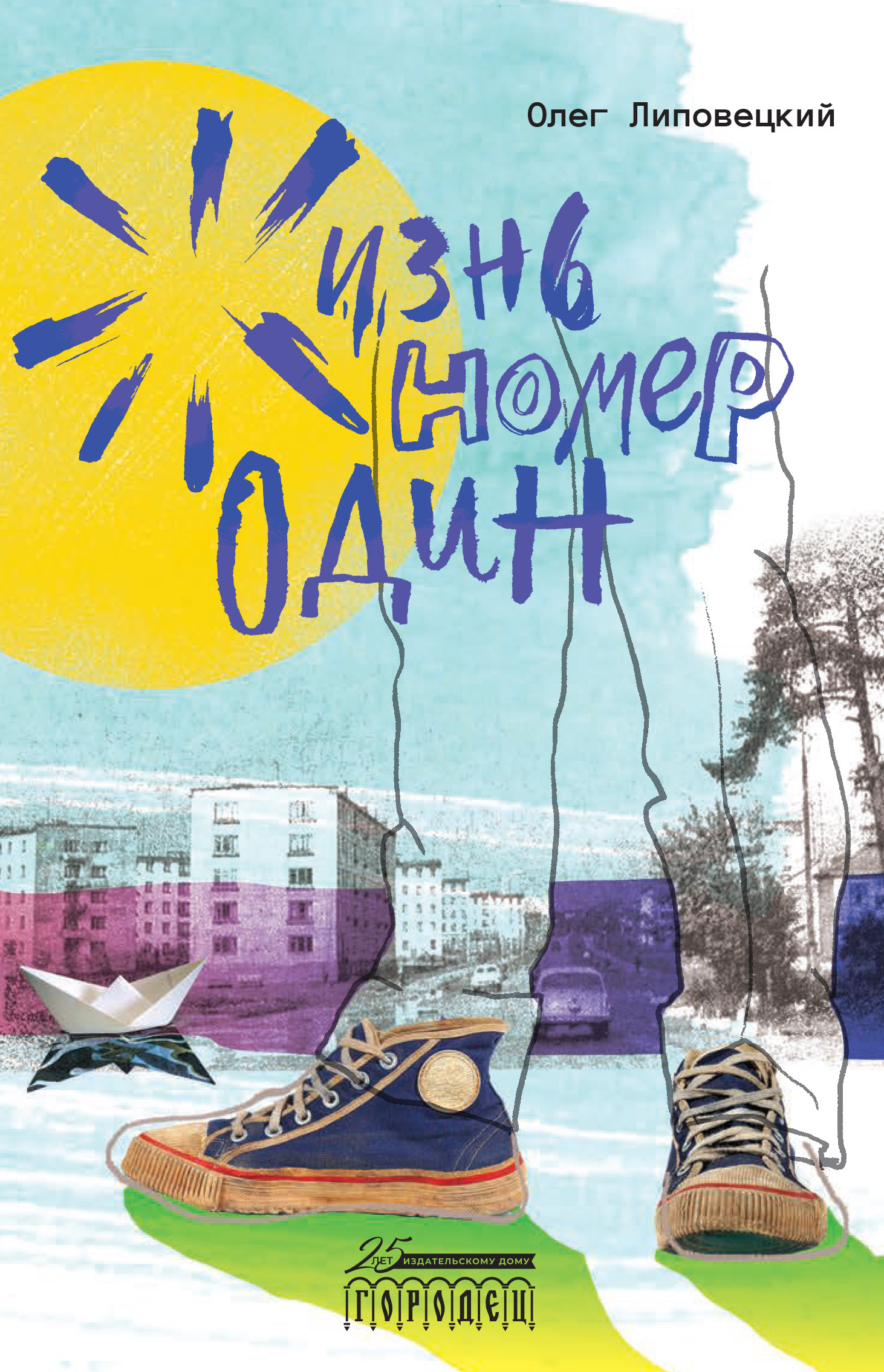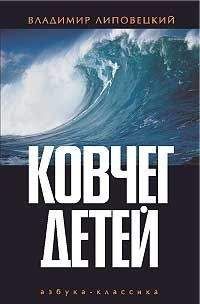то чтобы я не знал слова «театр». Я даже Шекспиром зачитывался в санатории вместе с Олесей Тиговской…
Олеся, Олеся… Прошло не так много времени с момента нашего расставания, а кажется, что полжизни пролетело – так были насыщены событиями дни. Сначала мы писали друг другу два раза в неделю. И это были письма, полные слез, любви и надежды. Через полгода частота обмена сообщениями сократилась до недели и пропали слезы. Но любовь и надежда еще оставались. Еще через несколько месяцев мы стали писать друг другу раз в три-четыре недели. А потом переписка сошла на нет. Я, честное слово, не помню, кто кому не ответил первый. Я иногда вспоминал Олесю, и грудь наполнялась теплом и нежностью. Но боли больше не было. Жизнь была стремительна и полна приключений. К тому же за соседней партой сидела Таня Сапожникова – моя безответная любовь с первого класса. Но я отвлекся. Это был первый спектакль, который я увидел вживую. И я был потрясен. Не костюмами – в кино они в тысячу раз круче, не декорациями – они были сделаны из фанеры и довольно прилично раскрашены дешевыми красками, ни актерской игрой, ни режиссерской мыслью – я абсолютно ничего в этом не понимал. Я был потрясен возможностями. На сцене ходили и разговаривали питкярантские парни моего возраста, делая вид, что они французская знать, а в зале этому верили. Мои земляки, не отрываясь, смотрели на сцену, и среди них – Таня Сапожникова.
На следующий день я стоял перед руководительницей и режиссером (тогда не было слова режиссерка) самодеятельного народного театра Антониной Алексеевной Варравиной. Собеседование я прошел успешно, поскольку хвастаться я любил и подробно рассказал Антонине Алексеевне и о Шекспире, и о гитаре, и о других своих достоинствах.
Через два дня я получил свою первую роль – старшего брата-лисенка в новой сказке, которую готовил театр. Роль была не главная, но большая, и, что важно, мой Лабан, так звали лиса, играл в спектакле на гитаре и пел. На премьере я имел успех. У всех, а особенно у самого себя. Я очень себе нравился в кожаных штанах и жилетке без рукавов. Я имел успех у всех, кроме Тани Сапожниковой.
Как ни странно, это не охладило моей тяги к театру. Но меня привлекали не спектакли и роли, а атмосфера, которая царила в самодеятельном храме Мельпомены. Люди разных возрастов и занятий – инженеры, учителя, врачи, школьники (был даже владелец видеосалона) разговаривали друг с другом как равные. Здесь никто не стремился доказать свое превосходство. У каждого было слово и у каждого было дело.
Когда-то, когда мне было десять лет, я уже испытывал это чувство. Папа и мама тогда купили дачу и вся семья с удовольствием отдавалась благоустройству нашего нового имения на берегу Ладоги. И вот тогда, найдя где-нибудь за три километра от дачи брошенную покрышку от грузовой машины, я, обливаясь потом, катил ее на дачу, чтобы сделать в ней цветочную клумбу. Две важные мысли делали эту тяжелую работу удовольствием. Первая – я знал, что меня обязательно похвалят мои родители. Вторая – мне было страшно важно и почетно знать, что я наравне с папой и мамой созидаю наш общий мир.
Сейчас родителям хвалить меня было не за что. Я отвратительно учился, ужасно себя вел, хамил, приходил домой поздно и часто с разбитым лицом. Словом, доставлял папе и маме одни неприятности.
А здесь, в самодеятельном театре, я нашел все, чего мне не хватало. Даже руководительница театра Антонина Алексеевна слушала меня, когда я высказывал свое мнение, так же внимательно, как и самого старшего артиста, которому было уже за сорок. С таким же удовольствием, как когда-то я катил тяжеленную покрышку, теперь я таскал декорации и репетировал. Именно здесь я в первый раз почувствовал, что такое настоящая свобода, – когда ты сам делаешь выбор, когда тебя никто не заставляет и не контролирует, когда ты хочешь сделать свою часть работы на «отлично» просто потому, что тебе нравится то, что ты делаешь, и те, с кем ты это делаешь.
Это было временем, когда отношения в театре стали для меня гораздо важнее, чем отношения с родителями, школой, да и вообще с реальной жизнью. Школа перестала меня интересовать давно, но под давлением родителей я до появления в моей жизни театра отдавал дань будущему аттестату, перетаскивая себя за уши из четверти в четверть. Теперь же у меня совсем не оставалось времени на учебу. В школу я ходил заниматься бизнесом. Потом нужно было бежать в театр. Ну а после театра – ходить с девчонками и тусить в подъездах, детских садах и на дискотеках.
В те редкие неночные моменты, когда я оказывался дома, я прилипал к гитаре, подаренной мне родителями на прошлогодний день рождения, в надежде, что музыкальный инструмент как-то облагородит их неуправляемое чадо. Надежды не оправдались, и мало того, гитара стала моим любимым гаджетом. Если я был дома – я непрерывно бренчал на гитаре, подбирая песни Цоя, Кинчева или Гребенщикова. В один из таких моментов коса наконец-то нашла на камень. Мама попросила меня вынести мусор. Я ответил что-то вроде: «Ага, сейчас вынесу» – и продолжил свои занятия. Это повторилось раз пять. Мои родители находились в постоянном стрессе из-за моей неуспеваемости, поведения, хамства, игнора и всех остальных прелестей. Через час после первой просьбы мама вошла в комнату и в шестой раз напомнила мне про мусор. Я сказал: «Ага» – и продолжил свои упражнения. Мама, не выдержав, попыталась отнять у меня гитару. Схватила за гриф и потянула к себе. Я вцепился изо всех своих немаленьких уже сил в корпус, но лакированные бока выскользнули из ладоней. Мама по инерции отшатнулась, потеряла равновесие, взмахнула руками, в которых, как вы помните, была гитара, и нечаянно врезала ею в стену. Инструмент издал громкий предсмертный аккорд и раскололся на несколько частей.
Боже мой, как я рыдал! Наверное, так я рыдал от обиды, только когда папа нес меня на плече мимо Марины. В первом классе зимой я катался вечером на лыжах с горки около дома и не хотел идти домой, несмотря на то что меня полчаса уже кричали из форточки. Мне было так хорошо – горка была пустая, все дети уже разошлись по домам, мне не нужно было стараться и показывать, что я не хуже, не медленнее других. Я мог спокойно, не торопясь и не задыхаясь, подниматься на горку. Меня никто