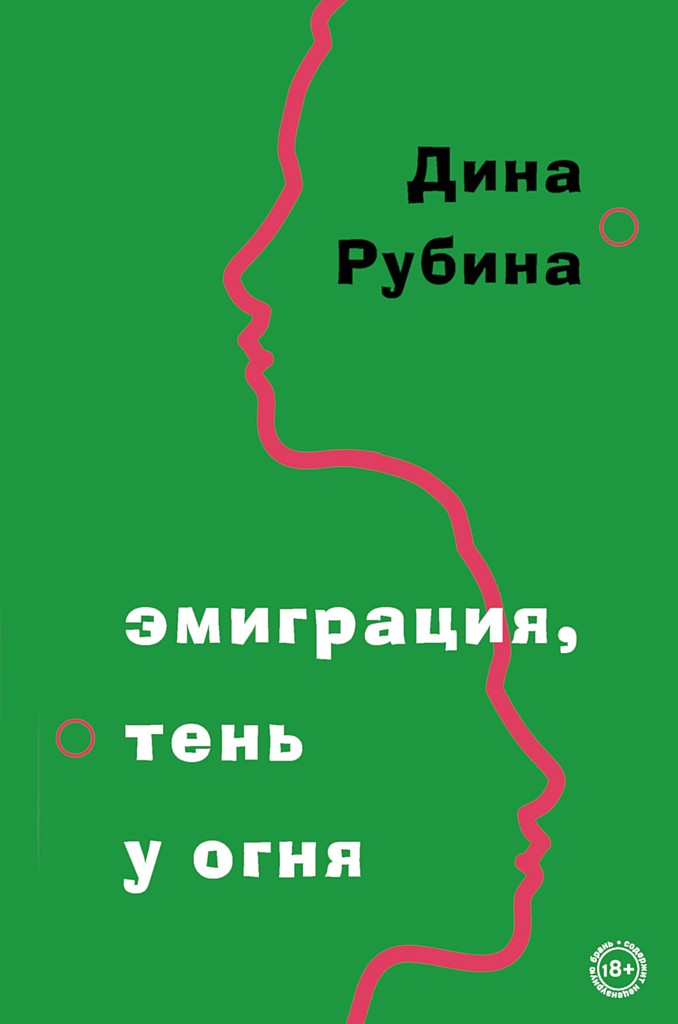за три управишься?
Та неопределенно пожала плечами, погладила одной ногой другую.
— Не управишься? — еще тревожней спросила Анжела.
В ту минуту я подумала, что ее заботит финансовая сторона вопроса. Однако, как показали события ближайших дней, дело было совсем не в том.
Сигарета казалась приставной деталью личика Виолетты, вынимала она ее изо рта только для поцелуя. Дверь маленькой студии, где на рабочем экране во тьме беззвучно крутилось кольцо из нескольких склеенных кадров, распахивалась каждые пять минут. На пороге возникал силуэт очередного мужчины, и, слабо застонав в тихом экстазе узнавания, Виолетта распахивала объятия, в которые вошедший и падал.
Так появился в студии известный столичный актер, к тому времени сыгравший главную роль в нашумевшем фильме знаменитого режиссера. Он вошел, Виолетта, вглядевшись прищуренными зелеными глазами в силуэт, тихо застонала, они расцеловались.
И вот тут, впервые за все эти месяцы, я наконец стала свидетелем того, что принято называть высоким профессионализмом.
Подсев на ручку кресла к Виолетте и поглаживая ее коленку, известный актер несколько мгновений вяло следил за происходящим на экране. Там крутилась довольно дохлая сцена выяснения отношений на свеженькую тему «отцы и дети». И снята в высшей степени изобретательно: поочередно крупный план — внучек, поигрывающий желваками на высоких скулах половецкого хана; и сморщенное личико страдающего дедушки. В завершение сцены камера наезжает — из правого глаза деда выкатывается скупая актерская слеза.
Кольцо крутилось бесконечной каруселью: лицо внука — лицо деда — скупая слеза; лицо внука — лицо деда — слеза, и так далее.
Виолетта, покуривая и сплетая атласные ноги, придумывала подходящий текст под шевеление губ. Помнится, на этом кадре она почему-то застряла.
И вот известный актер, просмотрев гениальный кадр всего один раз, уже на следующем витке, не снимая ладони с яблочно светящейся в темноте коленки, с фантастической точностью уложил некий текст в шевелящиеся на экране губы Маратика.
— Хули ты нарываешься, старый пидор? — негромко, с элегантной ленцой проговорил Маратик всесоюзно известным бархатным голосом. — Я те, ебенть, по ушам-то навешаю…
Эта фраза прозвучала так естественно, так соответствовала характеру самого Маратика и такой логически безупречной выглядела после нее скупая слеза на обиженном личике деда, что все, без исключения, сидевшие в студии, застыли, осознав сопричастность к большому искусству. А известный актер выдавал все новые и новые варианты озвучания кадра, в которых неизменным оставалось лишь одно — дед с внуком матерились по-черному. И каждый вариант был поистине жемчужиной актерского мастерства, и каждый хотелось записать и увековечить.
Порезвившись так с полчаса, известный актер вышел покурить. Я выскочила следом — выразить восхищение.
— Ну, что вы! — устало улыбнувшись, возразил он. — Это давно известный фокус. Помнится, однажды с Евстигнеевым и Гердтом мы таким вот образом почти целиком озвучили «Гамлета». Вот это было интересно. Кстати, в подобном варианте монолог «Быть или не быть?» несет на себе гораздо более серьезную философскую нагрузку…
…Если не ошибаюсь, в конце концов этот кадр был озвучен следующим текстом:
Дед: — Неужели ты решишься на этот поступок?
Внук: — Дедушка, вспомни свою молодость.
Камера наезжает. Из лукавого армянского глаза дедушки выкатывается густая слеза воспоминаний…
Затем известный актер удалился в обнимку с Виолеттой.
Она по нескольку раз на день исчезала куда-то с тем или другим работником искусства. Ненадолго.
— Пойдем покурим, — предлагала она, и минут через двадцать возвращалась как после курорта — отдохнувшая, посвежевшая…
— Ах, — светло вздыхала она, закуривая. — Какой дивный роман когда-то был у нас с Мишей (Сашей, Фимой, Юрой)…
Казалось, на «Узбекфильм» она приехала, как возвращаются в родные места — встретиться с еще живыми друзьями детства, вспомнить былое времечко, отметить встречу. И отмечала. Своеобразно.
Вдруг возникал в конце коридора какой-нибудь киношный ковбой — ассистент или оператор, режиссер или актер. Они с Виолеттой бросались друг к другу — ах, ох, давно ли, надолго ли?
— Пойдем покурим, — предлагала Виолетта.
Вернувшись минут через двадцать, щелкала зажигалкой и произносила мечтательно, одним уголком рта, не занятым сигаретой:
— Ах, какой нежный роман был у нас с Кирюшей лет восемь назад…
Спустя три дня напряженной работы Виолетты над укладкой текста я спросила Фаню Моисеевну:
— Слушайте, а сколько, собственно, годков этому дитяте?
— Ну, как вам сказать… Вот уже лет двадцать я работаю на «Узбекфильме», и… — Она задумалась, что-то прикидывая в уме. — …все эти годы всех нас укладывает Виолетта.
Весь укладочный период работы над фильмом прошел под знаком оленьих драк за Виолетту. Я не говорю о мелких потасовках между мальчиками-ассистентами, осветителями, гримерами; о странном пятипалом синяке, украсившем в эти дни физиономию главного редактора «Узбекфильма»; о мордобое, учиненном Маратиком двум каким-то вполне почтенным пожилым актерам, приглашенным на съемки фильма о борьбе узбекского народа с басмачами… Да я и не упомню всех этих перипетий, потому что все чаще уклонялась от посещений киностудии. Но вот обрывок странного разговора между Анжелой и Фаней Моисеевной помню:
— А я вам сто раз говорила: три дня — и точка. И ни минутой дольше. Многолетний опыт подсказывает.
— Но, Фаня, у меня такой сплоченный коллектив!
На поверку самым слабым звеном в нашем сплоченном коллективе оказалась парочка старинных друзей. Да, да, многолетняя дружба Стасика и Вячика буквально треснула по швам на глазах у всей съемочной группы. Разумеется, с каждым из них у Виолетты когда-то был «светлый дивный роман». Разумеется, и тот и другой успели уже помянуть с ней былое… Разумеется, они уже дважды обновили друг другу физиономии в пьяных драках, но…
— Но при чем тут мой фильм! — горестно восклицала Анжела. — Творчество, творчество при чем?!
Увы, разрыв отношений у Стасика и Вячика произошел-таки на творческой почве.
— Ты импотент! — кричал оператор художнику. — Всю жизнь носишься с убогой идеей драпировки объектов. Это обнаруживает твое творческое бессилие!
— Я — импотент?! — вскакивал Вячик. — Это ты — импотент! Крупный план — задница героя — выкатывается слеза!
— Старичок Фрейд на том свете сейчас имеет удовольствие, — заметил вполголоса Толя Абазов, присутствовавший при этой несимпатичной сцене.
— А я ей говорила — три дня — и точка! — бубнила за моей спиной Фаня Моисеевна.
Мой взгляд случайно наткнулся на Виолеттины ноги под креслом. Они кайфовали. Скинув горделиво выгнутую туфельку на высоченном каблуке, левая большим пальцем тихо и нежно поглаживала крутой подъем правой…
И напрасно директор фильма Рауф втолковывал Виолетте: «Кабанчик, не бесчинствуй!» — творческий разрыв между оператором и художником все углублялся, отношения их становились все более напряженными. Получая гонорар, из-за которого, собственно, и задержались оба в Ташкенте,