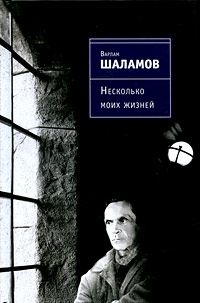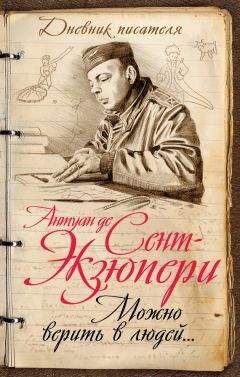- Мне хотелось самому понять и другим объяснить,- нахмурившись, сказал он, - вот это самое, что с детства в меня вошло: как народ стал хозяином, как ему трудно далось это, как веками шла борьба за землю и за свободу народа.
По окончании института его взяли на трехнедельные сборы командного состава, потом он поехал в деревню. Ему казалось, что это лето будет первым легким летом в его жизни. С осени ему предстояло работать в институте. Ему обещали при институте комнату, и он мечтал поселиться в ней со своей будущей женой Анной Ивановной Щегловой, студенткой фельдшерской школы. Чего только не собирался он проделать за это лето! - ходить на охоту, помочь отцу построить новую хату, ловить рыбу. Хотелось на пароходе, в каюте второго класса, повезти мать в Горький и познакомить ее со своей невестой.
Ему даже подумалось, что он заслужил это первое легкое лето в своей жизни.
Ведь все давалось ему трудом, упорным и суровым.
Он приехал домой 20 июня и сразу же поехал с отцом возить лес для новой избы. Мать поставила тесто, чтобы испечь пироги на воскресенье. Эти пироги, еще горячие, только что вынутые из печи, она положила в чемодан сыну. Касимов сказал, что, отойдя несколько десятков метров от дома, он оглянулся, увидел мать в темном платке и белое пятно у забора, свежий лес, привезенный им накануне.
А он думал, что лето 1941 года будет первым легким летом в его жизни.
IV
Касимов начал войну командиром роты. Война оказалась непохожей на то, что читал он о ней, ни на то, что рассказывали ему старые солдаты, ни на срочную службу, ни на учебные сборы командиров запаса.
Но одно лишь в войне не было неожиданным для пехотного командира Дмитрия Ивановича Касимова - тяжесть ее. Эту тяжесть он охотно и просто принял на свои плечи, она была естественна и законна. Он ждал ее. Его не смутили долгие сорокакилометровые переходы, палящий зной, удушающая пыль, ночи, проведенные под проливным дождем, бессонница и тяжкие каждочасные опасности и труды.
Самым сложным для него оказалось принять команду над людьми, такими же, как он, - быть властным над их жизнью и смертью.
Он не мог внутренне, душевно осознать свое право посылать людей на смерть.
И как-то, во время разговора, он мне сказал:
- Я все недоумевал: ведь люди все одинаковы. И потом я понял, что это право командир получает из двух своих обязательств перед бойцами. Первое это моральное, что ли: дели с ними всю тяжесть похода и всю опасность боев. Вот, представляете, застаю батальон на марше. Жара такая, что дышать нечем. Люди сели на припеке отдохнуть, пыль кругом, пот с людей льется. "А где же командир батальона?" Оказывается, он не идет вместе с людьми, а на трофейной машине, легковой, вперед поехал, купаться в речке. Подумать только! Крестьянский сын ведь! Ну, уж я его искупал. Он у меня после этого понял, что комбату надо маршировать с людьми, а не в речке купаться. И детям своим закажет кататься. А второе обязательство: воюй так, чтобы ни один человек не мог сказать: "Касимов неправильно скомандовал". Воюй так, чтобы из двадцати возможных ты находил наилучшее, единственное решение. Вот тогда у тебя право командовать и у людей вера в тебя. Это разные вещи: дисциплина и душевное убеждение. Вот и добейся, чтобы эти разные вещи в одну сошлись, чтобы в основе дисциплины лежало доверие к командиру, а не так, чтобы дисциплина сковывала недоверие.
Вначале, еще до войны, мне казалось: просто все. Потом, только война началась, подумал: "Мать родная, да я не справлюсь!" Какие только вопросы не выплыли! И тактика противника, и сотни его приемов, и сила его оружия, и как оно действует, и каков немец ночью, и каков днем, и чего он не любит, и чего он боится, и как он себя ведет на открытой местности, а как в лесу. Сила нашего бойца, сила нашего командира; силу нашего оружия определить; во что я верю, а в чем сомневаюсь, да мало ли что...
Не даром, не дешево далась Касимову наука войны. Однажды летом 1941 года он потерпел неудачу: отступил со своей ротой перед горстью немцев, обманувших его. Немцы открыли пулеметный огонь по высоте, на которой сидели люди Касимова, имитировали атаку. Когда завязался бой, вдруг послышались автоматные очереди, взрывы гранат в тылу у касимовской роты. Касимов решил, что его окружили большие силы немцев, он приказал своим людям отойти, оставить важную для обороны высоту. Через несколько часов высоту пришлось брать с огромными усилиями. Пленный немецкий ефрейтор, усмехаясь, рассказал, что накануне он по приказанию своего офицера в сопровождении четырех солдат пробрался в рощицу восточней злополучной высоты, там они и подняли страшный шум: бросали ручные гранаты, пускали в воздух одну за другой автоматные очереди; русские отступили. Касимов понял, что немец его обдурил.
Сперва он хотел утешить себя мыслью, что немец обманул его случайно. До утра размышлял он над этим происшествием, уличая самого себя в оплошностях и неумении.
Армии наши отступали в то время, но Касимов не падал духом. Сражаясь со своим батальоном в окружении, пробираясь раненым к деревне Жуковке, он не чувствовал себя потерянным и слабым,
- Сам не знаю, - говорил он, - откуда это бралось, но в то самое тяжелое для меня время, когда я одинокий лежал раненным в лесу, я думал, что нас победить нельзя.
Каждый день в тяжелых оборонительных боях Касимов постигал нечто новое для себя. Он говорил, что бой, который не обогатил хоть чем-нибудь его опыт, лично для него был проигранным, потерянным.
- Вот, к примеру, вопрос о ружейно-автоматном огне, - рассказывал он. - В первые дни войны мы смеялись над немцами, ведущими неприцельный огонь; нам казалось бессмысленным и глупым подымать дикую пальбу, не видя цели. Но вскоре я понял, что этот способ не так уж глуп. Моральное воздействие такого плотного, оглушающего огня большое, вполне окупает его неприцельность, неточность. Поди разберись во время боя, когда пули воют и свистят вокруг, целится по тебе противник или нет. Все равно кланяешься, жмешься к земле. А тут я выяснил, что мои бойцы в бою стреляют совсем лениво, несколько раз проверил после боя винтовки, оказалось - некоторые ни одного выстрела не делают. "Почему не вел огня?" Ответ у все один: "Противника не видел, не хотел зря стрелять". Ответ этот не точен. Люди боялись вести огонь, чтобы не навлечь на себя огонь противника. Ну, тут я сделал вывод - выработать вот такой автоматизм: находишься в бою - веди огонь, плотный, напряженный, подавляй им противника, жми его к земле. Я обрадовался: вот оно и есть решение вопроса, увлекся я. Но провел я еще несколько боев и понял: нет, это только часть вопроса. Такой вот огонь надо сочетать с точным, прицельным, снайперским огнем, снайперы в бою должны себе подготовлять цели так же, как артиллеристы, заранее намечать, засекать их. Организация этого дела - штука сложная, кропотливая. А затем стало мне ясно, что в бою очень важно бывает и молчать, что особенно тонкий момент и важный момент - это определить время, когда вести огонь. Умением молчать мы дезориентируем противника, и скажу вам, наоборот, без нужды, подчас бесцельно открытый огонь помогает противнику раскрыть наше построение и наши силы и причиняет врагу больше пользы, чем вреда. Бой вроде дипломатии: бывает полезно сказать слово, бывает полезно и помолчать. - Он рассмеялся и добавил: - Вся эта сложная штука, в общем, укладывается в пословицу: "Век живи, век учись".
V
В Сталинград Касимов попал после второго ранения. Выписался он из госпиталя в конце июля, получил десятидневный отпуск. Ему повезло: знакомый ему летчик гнал с фронтового аэродрома самолет в Горький, и он совершил весь путь от Балашова до своего родного дома в один день. Невеселые новости ожидали его.
Мать, увидев его, заплакала.
- Поседел мой Митенька, - сказала она.
- И вы совсем седая стали, - тихо сказал он.
Она протянула ему помятую бумажку, извещение, - младший брат его, Сергей, был убит на фронте. Отец сильно постарел, стал религиозен, ходил в церковь, читал библию, уже не интересовался, как раньше, "светскими" книгами.
- Как воевал? - спросил отец.
- Всяко, - отвечал он, - разные случаи были. - И он рассказал отцу, как перехитрил его немец в июле 1941 года.
Касимов пробыл дома четыре дня и уехал в Горький. Он хотел поехать пароходом вниз по Волге, а в Горький заехал для того, чтобы повидать свою невесту Анну Ивановну Щеглову. Больше двух месяцев он не имел от нее писем. Но в Горьком он не застал ее. Узнал от соседей, что Щеглова поехала на фронт с санитарной летучкой.
Его душевное состояние сосредоточенной, угрюмой силы, думается мне, было общее для очень многих и многих и как бы совпадало с духом сталинградской борьбы. Ночью он сидел на палубе парохода, великое звездное небо стояло над великой рекой, прекрасны были пышные закаты, нежны восходы солнца в легком тумане. Касимову вспомнилось детство и путешествие на плотах. Все было таким же торжественным, вечным, прекрасным, лишь песен не было слышно, темные берега Волги молчали.