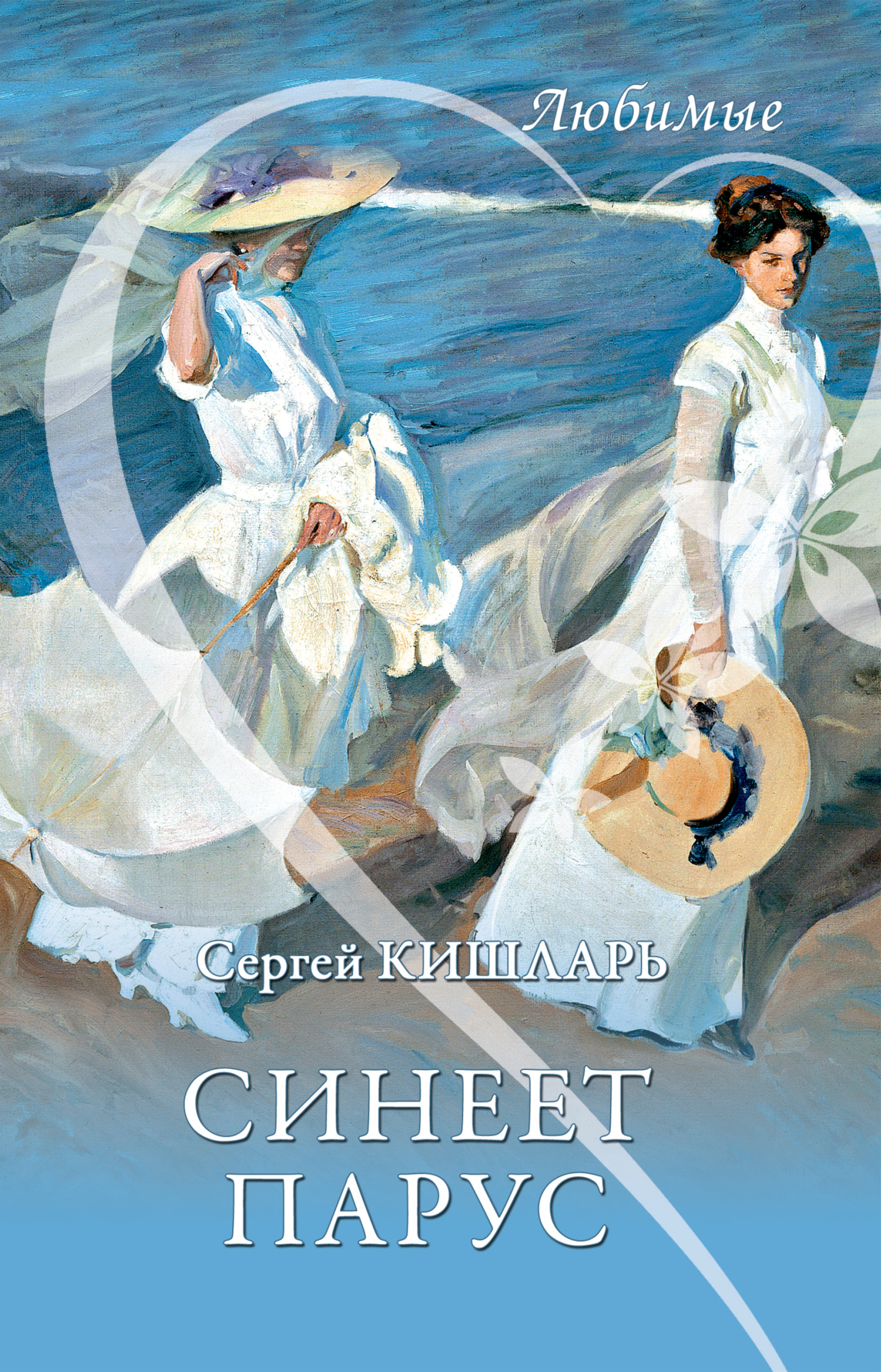приехал домой необычно рано, когда солнце ещё только садилось за черепичные крыши. Два раза щёлкнул ключом в замке, гадая, как встретит его Анюта? Пожалуй, будет лежать там же, где он оставил её утром – непричёсанная, с высохшими губами. Чтобы пережить обиду – одного дня для неё мало.
Что ж, для пользы дела можно и потерпеть. Чтобы урок возымел действие, надо выдержать строгую паузу. Сладить бы только со своими желаниями. А первое желание было – обнять Анюту, прижать к груди, расплакаться вместе с ней.
Максим толкнул дверь, остолбенел на пороге. Красный закатный сумрак комнаты был наполнен монотонным тиканьем часов. Анюта висела на крюке люстры. Голова безвольно упала на бок, плечи подались вперёд, удлинившиеся руки безвольно повисли вдоль туловища.
Споткнувшись об порог, Максим бросился снимать её, но только коснулся холодной руки – отпрянул. Силы покинули его. Он лунатической походкой обошёл висящую в петле Анюту, зачем-то заглянул в другие комнаты, прижался спиной в угол и, обтирая кожанкой извёстку, обессиленно сполз на корточки.
Сидел, обхватив голову руками, пока не прошло состояние отупения, и тогда в обманчиво опустевшей душе вдруг всколыхнулось что-то большое, рвущееся наружу. Сжимая в гузку кривящиеся губы, он вскочил из угла, упал на колени перед Анютой, обнял её ноги и больше не сдерживаясь, распустил тугой узел губ, заплакал навзрыд.
Когда стемнело, Максим, не зажигая света, вынул Анюту из петли, положил на кровать. Долго оглядывался, будто что-то потерял, потом рассеянно взял с пола котёнка, опустил его Анюте на грудь.
Всю ночь лежал Максим рядом с Анютой, заботливо поправлял на ней одеяло, кончиками пальцев поглаживая её по холодному лицу. Забылся он только утром.
Резкий звонок телефона долго тревожил сумрак комнаты. После паузы телефон звонил ещё раз, потом ещё. Максим лежал, тупо глядя в потолок. Только на четвёртый или пятый раз он снял телефонную трубку. Сказал не на шутку испуганному Куняеву, что чувствует себя плохо, побудет дома, а вы, мол, справляйтесь сами, не маленькие.
Только вечером он спустил ноги с кровати, долго сидел, прикрыв глаза. Потом глянул на наколку, криво усмехнулся… Ничего глупее, чем этот синий кораблик на руке не было в его жизни… Пленённый парусом солёный ветер, крепкая загорелая рука на руле. Рыбацкий домик за кормой, тонкая женская фигура, машущая ладонью вслед, куча детишек… Мечта.
Будто опасаясь, что его увидит кто-то посторонний и уличит в постыдном поступке, Максим торопливо поцеловал наколку, шагнул к телефонному аппарату:
– Барышня, 3—12, пожалуйста… Дежурный? Машину мне к дому!
В ЧК он приехал к ночи. Все сотрудники были ещё на местах. Хмуря брови и подрагивая желваками, Максим просмотрел списки приговорённых к расстрелу.
– Контрреволюционный агитатор, ещё агитатор, – читал он. – Деникинский шпион… Это тот, что две недели назад ещё? А ждали чего? В последний раз, когда приводили в исполнение? Вот же решение Ревтрибунала.
– Хотели, чтобы накопилось, – с недоумением пожал плечами Кирпичников. – Не водить же их по отдельности. Да вы сами же говорили…
– Помолчи-ка, – оборвал его Максим, постукивая ногтем указательного пальца по строке в середине списка. – Это что? Я сказал – погромщиков и налётчиков уничтожать на месте, а вы их мне в камеру тащите. Ну что вы за люди! – Сердито прихлопнул список всей пятернёй, перевёл дух и спустя несколько секунд поднял глаза на Куняева. – С Грановской работал?
Тот утвердительно кивнул головой.
– Бесперспективно. Ведёт себя независимо, презрительно. Похоже, никаких связей у неё не осталось, да и саму организацию мы распатронили в пух и прах.
– Тогда нечего канителиться.
Максим постучал пером в донышко чернильницы, внизу списка дописал: «Грановская О. В.». В соседней графе начал писать «контрреволюционный агитатор», но, написав «контер…», перо споткнулось, уронило кляксу.
– Мать вашу, – вспылил Максим. – Можете нормально писать – контра! Нет – агитатор-шмагитатор… Ты мне здесь ещё сочинение про «Войну и мир» напиши. – Он швырнул лист на тот угол стола, возле которого стоял Кирпичников. – Прикажи всем сотрудникам собраться внизу и этих десятерых готовь к процедуре.
Минут через двадцать сотрудники ЧК собрались в подвале. Максим приказал построиться и, заложив руки за спину, неторопливо прохаживался вдоль строя:
– Плох тот чекист, кто уничтожает контру, после того как та успела укусить. Врага надо чуять тогда, когда он ещё сам не знает, что собирается замыслить грязное дело. Выявить и уничтожить собственной рукой, а не ждать, когда этим расстрельная команда займётся. Многие, вижу, чистенькими хотят остаться. Жиром заплыли… На пузо-то не гляди: не животы – совесть революционная жиром заплыла. Оружие при всех имеется?.. Ну, коли так… Кирпичников! Веди.
Смертников выводили голышом к стене, по четверо. Частой разнобоицей загрохотали в гулкой каменной пустоте револьверные выстрелы, кирпичная стена стреляла в ответ облачками красной пыли. Первая расстрельная четвёрка отошла в сторону, давая место новой группе чекистов. В полутёмном углу вытряхивали на пол стреляные гильзы, втыкали в револьверные барабаны новые патроны, частыми поспешными затяжками превращали папиросы в окурки. Пряный запах пороха густо мешался с запахом табачного дыма.
– Становись! – командовал Максим новой четвёрке.
Чекисты становились в рядок, опасливо поглядывая на начальника, – повадки у того были непривычные, пугающие. Взгляд холодил до мурашек по коже; правая рука неотлучно лежала на коробке маузера; жёсткий голос сулил недоброе:
– А вы, товарищ Куняев?
– Я? – запнулся Колька. – Вы же знаете, товарищ Янчевский, я…
– Отставить! – оборвал Максим, хлопнув одного из чекистов по плечу, чтобы тот освободил место в четвёрке. – Разоблачать контру – полдела. Надо уметь давить её. Становись!
Качнувшись, как пьяный, Куняев занял освободившееся место, узкая спина его жалко сгорбилась. Очередников поставили к стене, поднялись дула наганов.
– По врагам революции… – скомандовал Максим. – Пли!
Три нагана запрыгали в руках, оглашая кирпичные своды привычным гулом, четвёртый безвольно повис дулом у самого колена. Куняев вернулся с огневого рубежа, не поднимая глаз. Максим только коротко кивнул жёстким небритым подбородком на выход – иди, мол, глаза б мои тебя не видели. Обескураженный до потери чувства реальности, Куняев дрожащей рукой протянул ему свой наган. Максим холодно посмотрел в убегающие Колькины глаза:
– Чекисты со своим оружием не расстаются. Иди!
Куняев ушёл, шаркая сапогами.
Смертников осталось двое: Грановская и гимназист лет шестнадцати. Затравленно озираясь, гимназист дрожащими пальцами не мог сладить с пуговицами на вороте рубахи. Грановская казалась спокойной, – кинула к стене лёгкую кофточку, уронила к ногам юбки, изящным движением вышла из них, как если бы она собиралась искупаться в море или лечь в постель к любимому человеку. Не стесняясь своей наготы, пошла к стене, поджимая пальцы на острой кирпичной крошке. Повернулась