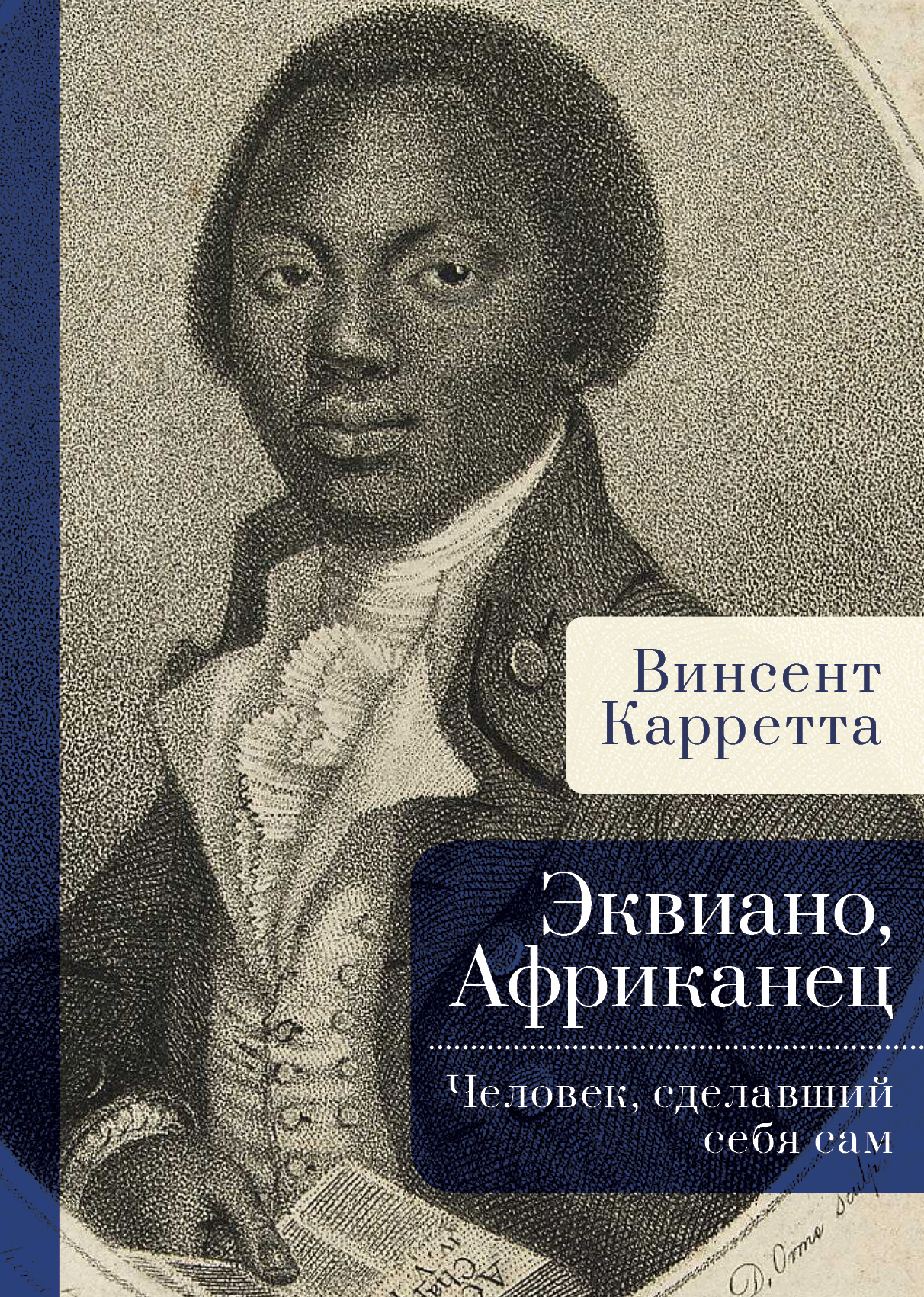в коленях. Затем боль переместилось к бедрам, талии, позвоночнику, к черепу. Как змея, ползущая вдоль ее костей. Иногда я вспоминаю тот день, когда она сидела на диване, даря мне эти маленькие прикосновения, прикосновения, которые не хотели направить меня в ту или другую сторону, хотя, думаю, она хотела Джоджо, потому что ее траур по Гивену жаждал новой жизни. Иногда я задаюсь вопросом, был ли уже с нами ее рак в тот момент, был ли он еще одним яйцом, желтым яйцом, сплетенным из горести, в форме пулевых отверстий, шевелящимся в ее костном мозге. В тот день на ней была блузка, сшитая ею самостоятельно из ткани с бледно-желтыми цветами. Розами, кажется.
– Ты хочешь этого малыша, Леони?
Вспышка молнии внезапно осветила дом, и я дернулась, услышав грохот грома.
Я подавилась и закашлялась; мама похлопала меня по спине. Влажность оживила волосы вокруг ее лица, пряди вставали и скручивались в сторону от ее маслянистой кожи. Молния ударила снова, на этот раз будто прямо над нами, в нескольких шагах от входа в дом, и ее кожа была белой, словно камень, а волосы развевались, и я вспомнила Медузу, которую видела в старом фильме, когда была маленькой, ужасную и зеленокожую, и подумала: Все перепутали. Она была прекрасна, как Мама. Именно потому мужчины каменели перед ней, увидев нечто столь совершенное и свирепое в этом мире.
– Да, Мама, – сказала я.
Меня до сих пор коробит, когда я думаю об этом: о том, что я колебалась, что я смотрела на лицо своей матери в том свете и чувствовала, как борюсь с желанием стать матерью, с желанием родить ребенка в этот мир, дать ему эту жизнь. То, как мы сидели на том диване, касаясь коленей друг друга, склонив спины, опустив головы, навело меня на мысль о зеркалах и о том, как я хотела стать другой женщиной, как я хотела уехать куда-то далеко, отправиться на Запад, в Калифорнию, наверное, вместе с Майклом. Он все время говорил о переезде на Запад и о работе сварщиком. С ребенком это будет сложнее. Мама посмотрела на меня, и теперь она была уже не каменная: глаза у нее стали помятые, а рот смешно изогнулся, и я поняла, что она знает, о чем я думаю. И я вдруг испугалась, что у нее есть еще и способность читать мысли, что она увидит меня внутри, пытающуюся уклониться от своей судьбы. Но потом я подумала о Майкле, о том, насколько счастливым он будет, о том, что у меня всегда будет часть его, и это тревога растаяла, как сало в чугунной кастрюле.
– Хочу.
– Я бы хотела, чтобы ты сначала закончила школу, – сказала мама.
Еще одна пылинка, на сей раз на моих волосах.
– Но как есть, так есть.
Тогда она улыбнулась: тонкая линия, без зубов, и я наклонилась вперед и вновь положила голову ей на колени, и она провела руками вверх и вниз по моей спине, между моих лопаток, нажимая на основание моей шеи. Успокаивая меня, как ручей, как будто она впитала в себя всю воду, обрушивающуюся на мир за окном, и выделяла ее по каплям, чтобы успокоить меня. Я дочь океана, дочь волн, дочь пены, – пробормотала мама на французском, и я поняла. Поняла, что она обращается к Пресвятой Деве Реглы. К Звезде Моря. Что она взывала к Иемайе, богине океана и соленой воды, своими умиляющими звуками и словами, и что она обнимала меня как богиня, ее руки были – все дарящие жизнь воды мира.
Я мирно сплю, пока Майкл не будит меня, вонзая пальцы в мое плечо. Во рту так сухо, что даже губы слиплись.
– Полиция, – говорит Майкл.
Дорога позади нас пуста, но напряжение в его руке и широко раскрытые глаза показывают мне, что дело серьезное. Я не вижу полиции и не слышу сирен, но они явно там.
– У тебя нет водительских прав, – говорю я.
– Нужно поменяться местами, – отвечает он, – Хватай руль.
Я хватаю руль и упираю ноги в пол, поднимаю задницу с сиденья, чтобы он мог перебросить одну ногу на пассажирское сиденье и начать пересаживаться. Он снимает ногу с газа, и машина начинает замедляться. Я ставлю левую ногу около педали и на одну ужасную и смешную минуту оказываюсь на его коленях посередине машины.
– Бля, бля, бля.
Он смеется. Именно так он ведет себя, когда испытывает страх. Когда у меня начались схватки и воды отошли прямо возле стеллажа со сладостями в магазинчике в Сен-Жермене, он подхватил меня на руки и понес к своему пикапу, смеясь и ругаясь. Он рассказывал мне, что однажды, когда он был мальчиком, корова ударила одного из его друзей посреди ночи, когда они забежали в стойло с фонариками, чтобы попугать скотину: его друг, рыжий с тонкими, как карандаши, ручками, и ртом, полным гнилых зубов из-за отсутствия гигиены и привычки жевать табак, отлетел, упал, и его рука треснула, как ветка дерева. Локоть сломался под неестественным углом, осколок кости торчал из верхней части его руки, похожий на зазубренную раковину устрицы. Майкл сказал, что его собственный смех в тот момент напугал даже его самого: высокий и задыхающийся, словно у девчонки. Майкл поднимает меня со своих колен, пересаживается на пассажирское сиденье, а я сажусь за руль и вижу огни, быстро приближающиеся сзади по двухполосному шоссе. Мигающие синие огни и заикающуюся сирену.
– Оно у тебя? – спрашиваю я.
– Что?
– Ну хрень эта. То, что дал Ал.
– Сука! – Майкл шарится по карманам.
– Что? – Мисти просыпается на заднем сиденье, крутится, оборачивается назад, пока я начинаю сбавлять скорость.
– Твою мать, – ругается она, увидев огни.
Я смотрю в зеркало заднего вида, и Джоджо смотрит прямо на меня. Он весь как Па: грустный рот с опущенным уголками, похожий на клюв нос, спокойные глаза, осанка прямо как у него. Микаэла просыпается с плачем.
– Времени нет, – говорит Майкл.
Он дергает коврик, пытаясь спрятать пластиковый пакетик в дверцу в полу машины, но слишком многое мешается: свернутая майка, которую я купила ему в магазинчике у дороги, когда мы останавливались заправиться, пачки чипсов, банки “Доктора Пеппера” и конфеты, купленные на деньги, что дал нам Ал.
– Ав нем еще и сраная дыра.
Дно пластикового пакетика порвано, белые с желтым кристаллы сухие и крошатся.
Я хватаю маленький белый пакетик. Засовываю его в рот. Собираю слюну и глотаю.
Полицейский молод, как я и Майкл. Он худощав, и его фуражка, кажется, слишком велика ему. Когда он наклоняется в машину, я вижу, как засохший гель на его волосах уже начал отслаиваться. Он открывает рот и говорит, выдыхая на нас коричными леденцами.
– Вы в курсе, что вы