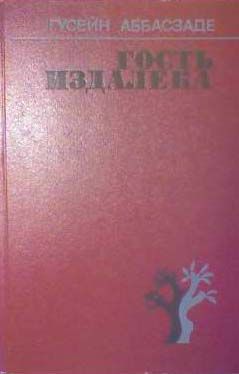Интересно, чем занимается этот тучный мужчина в обычное время? Пийчи Гейбат днем подрабатывал тем, что резал, где попросят, скот, а постоянная должность у него была ночная - работал сторожем при сберегательной кассе... А что там сторожить, кто в небольшом районе пойдет грабить сберкассу, если тут все друг друга в лицо знают? Гейбат запирал ее изнутри - и дрых всю ночь напролет... Сколько есть таких местечек и должностей, где людям абсолютно нечего делать, а они якобы что-то делают, стаж идет, и пенсия непременно будет... Нет, все-таки для каждого дела, для каждой профессии должны быть свои люди. Глаз привык, и в сознании устоялось, что повар должен быть толстым, а танцовщица - худой, и если случается какое-то отклонение, это и удивляет, и большей частью является ненормальным. Разве в "Скорой помощи" работать такому детине? Тут нужны худые, проворные, легкие на подъем люди. Подобает ли серьезному человеку работать медбратом, таскаться по ночным вызовам рядом с врачом, которая ему в дочери годится? Наверное, есть у него какая-то основная должностишка, так, не бей лежачего, а в "Скорой" он либо подрабатывает, либо недостающий стаж нагоняет...
Медбрат размотал повязку и сдернул прилипший к брови бинт. Бахман невольно вскрикнул.
- Слушай, дорогой,- рассердилась Гюляндам-хала на медбрата,- осторожно разве нельзя? Ведь рана болит. Если бы рана была у тебя...
- Ай баджи, хоть рана и не у меня, что такое боль, я хорошо знаю! Я перевязал столько ран, сколько волос на моей голове. А ты будешь меня учить моему делу?
- Учиться никогда не поздно.
- А я этого и не слыхивал,- насмешливо отозвался медбрат.- Дай бог тебе здоровья, сестрица!
- Спасибо, я и так здорова, не жалуюсь ни на что и, слава аллаху, в вашей помощи не нуждаюсь.
Дверь веранды отворилась, и осторожно вошел Гани-киши, виновато прислонился к косяку. Он беспокоился за парня, и одновременно его тревожило, какие последствия могут быть, и потому он хотел знать, насколько серьезна рана.
- Вам повезло, молодой человек,- сказала врач, осмотрев рану.- Я думала, разрыв будет большой и придется зашивать, чтобы шрама не было. Хорошо, что вовремя наложили повязку.- Она повернулась к медбрату: - Забинтуйте!
Медбрат, уходя, то ли забыл, то ли умышленно никому не сказал "до свидания", и Гюляндам, невзлюбившая его с первой минуты, сделала руками такой жест, будто выталкивала:
- Вот тебе, э-э, противный! Бог каждому дает по заслугам, хорошо, что ты только медбрат, никаких солидных постов не занимаешь, не доктор, не профессор, а то несчастные больные плакали бы от тебя!
Неизвестно, надо ли было или назло всем, но медбрат так туго забинтовал голову, что казалось - ее стягивают железным обручем. Обхватив голову руками, Бахман сидел на краешке раскладушки и ждал, когда же соседи уйдут, чтобы прилечь. Наконец и Гури догадалась, что делать тут им нечего.
- Если во мне нужды нет, мы пойдем, Гюляндам, а вы отдыхайте.
- Нету, дочка, нету больше нужды, идите, а то мы вас тоже измучили.
Уходя, Афет снова усмехнулась. Неужели он так смешон в этой повязке? Наверное, да. Но все же надо признать: когда Афет улыбалась, она была такой красивой...
"Скорая помощь" уехала, кто-то уже запер за врачом дверь...
Бормоча молитвы, Гюляндам улеглась и затихла.
Лег и Бахман. Повязка давила еще сильнее, и он просунул под нее пальцы, чтобы немного ослабить. Помогло ненадолго, и стало давить еще больше, голова как свинцом налилась. Здорово медбрат закрутил! Словно на целый век.
Ну и ночка выдалась! За несколько часов он увидел столько, сколько не видел за свои семнадцать прожитых лет. И не со стороны увидел, а попал в центр весьма неприятных событий. За малым не остался без глаза... Мог бы занять место умершего в прошлом году кривого Нурали... Но тот потерял глаз на войне, а он мог лишиться его по милости пьяного хулигана... А как этот Нурали настрадался! Всю жизнь ходил с суконной повязкой на глазу... Когда снимал ее, люди ужасались. Верно говорят: лицо человека красит, а глаза - лицо... Обошлось без беды, и то хорошо, благодари судьбу, Бахман. Спи, сказал он себе, утро вечера мудренее, и ночь уже на исходе, спи.
III
Но близилось утро, а уснуть он так и не мог. И не могла уснуть Гюляндам; растревоженная, она думала о квартиранте.
- Не спишь, сынок? Я тоже не сплю. Разве после таких передряг уснешь? Слушай, не забыть бы: доктор велела тебе в поликлинику сходить, на перевязку. А я только теперь вспомнила, что там у них новое правило завели: кто не записан в домовую книгу, того не обслуживают. Паспорт твой со всеми бумажками я когда еще сдала той девице, что при управдоме, а она, паршивка, все откладывает прописку: придите завтра, ждите послезавтра... Конечно, у этой чернявенъкой есть расчет: ждет, чтобы я сунула рублей пять-шесть. Только напрасно ждет, не видать ей этой бумажки как своих ушей. Наверное, если еще дня два-три протянет, пойду жаловаться большому начальнику,
- Если из-за меня, то не надо, Гюляндам-нене '. Я думаю, если попрошу, в поликлинике перевязать не откажут.
- А зачем того-другого просить, родной мой, если делать это обязаны? Разве ты не в этом доме живешь? Все надо просить... И живому человеку не верят, а клочку бумаги верят!..
- Ничего, Гюляндам-нене, обойдется.
Вот эта примирительная реплика была совершенно ни к чему: старая женщина, что называется, "завелась", и Бахман подумал с тоской, что теперь уже до утра глаз не сомкнет.
- "Ничего"... Больше всего не нравится мне это слово - "ничего". Если что-нибудь с человеком плохое случается, так как раз из-за таких вот "ничего". Из-за уступчивости этой проклятой. Зачем далеко ходить, возьмем вот этого Гани-киши. Была у него жена... Такой скандалистки еще поискать... Как будто не от людей родилась... Дочь Шумюра!2 Ни стыда у нее, ни совести. Как говорится, орехи у мужа на голове колола. А что Гани-киши? А ему неловко перед людьми, ничего, думает, образумится... Он свою злость глотает, молчит, а Дурдана думает, что он ее боится и потому с ней в споры не ввязывается. И кричит Дурдана, из-за любого пустяка горло дерет. И перед детьми мужа унижала, лишала уважения, и перед соседями... Ну и какая же это жизнь, если сладу нет, и жена под свой каблук мужа подминает? Да хотя бы красивой или умной была, а то ведь дура набитая. Было у них не то семеро, не то даже больше детей, а в живых остались только двое - сын да дочь. И вот эта дочка ее ненаглядная, Сакина, она теперь в Барде живет, учительница, свой дом, свою семью имеет... И вот этот Алигулу, ты видел, что за человек. Гани-киши дрожал над своими детьми, Алигулу этого любил особенно. Думаю, только дети и привязывали Гани к дому, иначе он не терпел бы Дурдану ни дня... Он детей жалеет, она - колотит, а когда мать с отцом ругаются, дети держат сторону матери. Так с трех сторон и нападали на человека. "Ты плохой отец! - орали они.- Что ты нам купил, что хорошего сделал? Куда нас повез, что показал? Погляди на других отцов! Чем их дети лучше нас?" С трех сторон нападали
на человека как коршуны. А он терпел, бедняга. Все это видели, переживали за пего. А Гани старался не подавать виду, что в семье нелады, что его притесняют. "Ничего,- говорил он,- дети ведь маленькие, не понимают, что говорят... Дай им бог здоровья, вырастут, глаза откроются, научатся отличать добро от зла, правого от неправого, оценят своего отца". Но и эта надежда рухнула. Ведь если смирного коня рядом с диким привязывать, он масти не сменит, но нравом изменится обязательно... Дети Гани-киши пошли в мать: злые, недобрые, сердца у них просто каменные. Дочь в районе сидит, хоть раз в год приехала бы посмотреть, жив ли еще отец. А сын, ты видел, как старика изводит. Дурдана-арвад лет десять как умерла, но Алигулу еще успела женить, подобрала ему дочку своей родственницы, и правду сказать, хорошая, благородная девушка, жаль, досталась такому подлецу... Алигулу ей жизнь отравил. Измывался над ней как хотел и в конце концов бросил ее, осталась женщина с тремя детьми на руках, при живом отце сирот воспитывает... А он, уж не знаю, законно ли, незаконно, женился снова, взял женщину намного моложе себя, да и с ней тоже недолго жил. Эта женщина оказалась побойчее, быстро раскусила, что за фрукт ей достался, и прогнала болвана, как собаку от дверей мечети. Этот бездельник и раньше к спиртному прикладывался, а после этого еще больше к нему пристрастился. А ведь на хорошем месте работал, проклятый, мастером был на заводе, где пароходы чинят, и, говорят, неплохо зарабатывал. Но из-за пьянства и из-за прогулов его с работы вышвырнули. Тут он про отца-то и вспомнил, и уж больше ни о чем у него сил думать нету, присосался к старику. Гани-киши как раз вышел на пенсию, но без дела не сидит ни минуты, все что-то там мастерит, подрабатывает не столько для себя - много ли ему надо! - сколько для внуков, помогает первой жене Алигулу, с тремя детьми ведь осталась! А тут Алигулу вылез. Из огня да в полымя попал старик. Отнимает у него, мерзавец, все деньги, глотка у него бездонная, много водки можно влить... Гани-киши терпит, соседей стыдится, никому про горе свое сказать не может. А нам ведь и так все видно, но вмешаться никто не смеет, потому что дело вроде семейное, Гани-то молчит... Потом, слышим, устроился Алигулу куда-то на работу, но вскоре попался на воровстве, арестовали его, и угодил он в тюрьму. Не принято радоваться такому, но, поверь, эта новость многим пришлась по душе; соседи подумали, что наконец старик поживет в покое. Внуки стали ходить к Гани-киши. Он им рад. Хвала аллаху, такие хорошенькие: два мальчика и девочка, смотришь не налюбуешься. Думаешь, неужели от такого отца родились? Он ведь на них ни разу даже не глянул! Зато дед души в них не чает... Не знаю уж, как получилось, что Алигулу выпустили из тюрьмы раньше времени? Ну, думаем, посидел, урок получил, поумнел все-таки, да и возраст уже немалый - за сорок перевалило, пошалил, покуролесил, и хватит, вернется к жене и детям и заживет тихо...