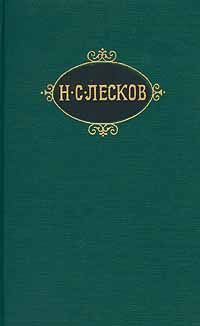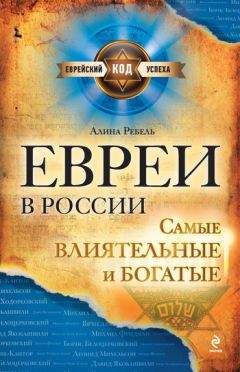"Ребёнков" у него было, по его словам, что-то очень много, едва ли не "семь штуков", которые "все себе имеют желудки, которые кушать просят".
Как не почтить человека с такими семейными добродетелями, и мне этого Лазаря, повторяю вам, было очень жалко, тем больше, что, обиженный от своего собственного рода, он ни на какую помощь своих жидов не надеялся и даже выражал к ним горькое презрение, а это, конечно, не проходит даром, особенно в роде жидовском.
Я его раз спросил:
- Как ты это, Лазарь, своего рода не любишь?
А он отвечал, что добра от них никакого не видел.
- И в самом деле, - говорю я, - как они не пожалели, что у тебя семь "ребёнков" и в рекруты тебя отдали? Это бессовестно.
- Какая же, - отвечает он, - у наших жидов совесть?
- Я, мол, думал, что, по крайности, хоть против своих они чего-нибудь посовестятся, ведь вы все одной веры.
Но Лазарь только рукой махнул.
- Неужели, - спрашиваю, - они уж и бога не боятся?
- Они, - говорит, - его в школе запирают.
- Ишь, какие хитрые!
- Да, хитрее их, - отвечает, - на свете нет.
Таким образом, если замечаете, мы с этим пегим рекрутом из жидов даже как будто единомыслили и пришли в душевное согласие, и я его очень полюбил и стал лелеять тайное намерение как-нибудь облегчить его, чтобы он мог больше зарабатывать для своих "ребёнков".
Даже в пример его своим ставил как трезвого и трудолюбивого человека, который не только сам постоянно работает, но и обоих своих товарищей к делу приспособил: рыжий у него что-то подшивал, а чёрный губан утюги грел да носил.
В строю они учились хорошо; фигуры, разумеется, имели неважные, но выучились стоять прямо и носки на маршировке вытягивать, как следует, по чину Мельхиседекову. Вскоре и ружьём стали артикул выкидывать, - словом всё, как подобало; но вдруг, когда я к ним совсем расположился и даже сделался их первым защитником, они выкинули такую каверзу, что чуть с ума меня не свели. Измыслили они такую штуку, что ею всю мудрую стойкость Мордвинова чуть под плотину не выбросили, если бы не спас дела Мамашкин.
Вдруг все мои три жида начали "падать"!
Всё исполняют как надо: и маршировку, и ружейные приёмы, а как им скомандуют: "пали!" - они выпалят и повалятся, ружья бросят, а сами ногами дрыгают...
И заметьте, что ведь это не один который-нибудь, а все трое: и вороной, и рыжий, и пегий... А тут точно назло, как раз в это время, получается известие, что генерал Рот, который жил в своей деревне под Звенигородкою, собирается объехать все части войск в местах их расположения и будет смотреть, как обучены новые рекруты.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Рот - это теперь для всех один звук, а на нас тогда это имя страх и трепет наводило. Рот был начальник самый бедовый, каких не дай господи встречать: человек сухой, формалист, желчный и злой, притом такая страшная придира, что угодить ему не было никакой возможности. Он всех из терпения выводил, и в подведомых ему частях тогда того только и ждали, что его кто-нибудь прикончит по образу графа Каменского или Аракчеевской Настьки. Был, например, такой случай, что один ремонтёр, человек очень богатый, подержал пари, что он избежит от Рота всяких придирок, и в этом своём усердии ремонтёр затратил на покупку лошадей много своих собственных денег и зато привёл таких превосходных коней, что на любой императору сесть не стыдно. Особенно между ними одна всех восхищала, потому что во всех статьях была совершенство. Но Рот, как стал смотреть, так у всех нашёл недостатки и всех перебраковал. А как дошло дело до этой самой лучшей, тут и вышла история.
Вывели эту лошадушку, а она такая весёлая, точно барышня, которая сама себя показать хочет: хвост и гриву разметала и заржала.
Рот к этому и придрался:
- Лошадь, - говорит, - хороша, а голос у неё скверный.
Тут ремонтёр уже не выдержал.
- Это, - говорит, - ваше высокопревосходительство, оттого, что "рот" скверен.
Анекдот этот тогда разошёлся по всей армии.
Генерал понял, рассердился, а ремонтёра в отставку выгнал.
С этаким-то, прости господи, чёртом мне надо было видеться и представлять ему падучих жидов. А они, заметьте, успели уже произвести такой скандал, что солдаты их зачислили особою командою и прозвали "Жидовская кувыркаллегия".
Можете себе представить, каково было моё положение! Но теперь извольте же прослушать, как я из него выпутался.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Разумеется, мы всячески бились отучить наших жидков от "падежа", и труды эти составляют весьма характерную историю.
Самый первый одобрительный приём в строю тогдашнего времени был хороший материальный окрик и два-три лёгких угощения шато-скуловоротом. Это подносилось не в счёт абонемента, а потом следовало поднятие казённых хвостиков у мундира за фронтом и, наконец, настоящие розги в обширной пропорции. Всё это и было испробовано как следует, но не помогло: опять чуть скомандуют "пали" - все три жидовина с ног валятся.
Велел я их очень сильно взбрызнуть, и так сильно сбрызнули, что они перестали шить сидя, а начали шить лёжа на животах, но всё-таки при каждом выстреле падают.
Думаю: давай я их попробую какими-нибудь трогательными резонами обрезонить.
Призвал всех троих и обращаю к ним своё командирское слово:
- Что это, - говорю, - вы такое выдумали - падать?
- Сохрани бог, ваше благородие, - отвечает пегий: - мы ничего не выдумываем, а это наша природа, которая нам не позволяет палить из ружья, которое само стреляет.
- Это ещё что за вздор!
- Точно так, отвечает: - потому Бог создал жида не к тому, чтобы палить из ружья, ежели которое стреляет, а мы должны торговать и всякие мастерства делать. Мы ружьём, которое стреляет, все махать можем, а стрелять, если которое стреляет, - мы этого не можем.
- Как так "которое стреляет"? Ружьё всякое стреляет, оно для того и сделано.
- Точно так, - отвечает он: - ружьё, которое стреляет, оно для того и сделано.
- Ну, так и стреляйте.
Послал стрелять, а они опять попадали.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Чёрт знает, что такое! Хоть рапорт по начальству подавай, что жиды по своей природе не могут служить в военной службе.
Вот тебе и Мордвинов и вся его победа над супостатом!
Срам и досада! И стало мне казаться, что надо мною даже свои люди издеваются и подают мне насмешливые советы.
- Пороны уже, - говорю, - они достаточно.
- Выпороть, - говорит, - еще их "на-бело" и окрестить. Тогда они иной дух примут.
Но отец-батюшка, который там был, сомневался и говорил, что крещение, пожалуй, не поможет, а он иное советовал.
- Надо бы, - говорит, - выписать из Петербурга протоиерейского сына, который из духовного звания в техноложцы вышел.
- Что же, - говорю, - тут техноложец может сделать?
- А он, - говорит, - когда в прошлом году к отцу в гости приезжал, то для маленькой племянницы, которая ходить не умела, такие ходульные креслица сделал, что она не падала.
- Так это вы хотите, чтобы и солдаты в ходульных креслицах ходили?
И только ради сана его не обругал материально, а послал его ко всем чертям мысленно.
А тут Полуферт приходит и говорит, что будто точно такая же кувыркаллегия началась и в других частях, которые стояли в Василькове, в Сквире и в Тараще.
- Я, даже, говорит, - "пар сет оказиен" и стихи написал: вот "экутэ", пожалуйста.
И начинает мне читать какую-то свою рифмованную окрошку из слов жидовских, польских и русских.
Целым этим стихотворением, которое я немного помню, убедительно доказывалось, что евреям не следует и невозможно служить в военной службе, потому что, как у моего поэта было написано:
Жид, который привык торговать
Люкем и гужалькем,
Ляпсардак класть на спину
И подпирацься с палькем;
Жид, ктурый, як се уродзил,
Нигде по воде без мосту не ходзил.
И так далее, всё "который", да "ктурый", и в результате то, что жиду никак нельзя служить в военной службе.
- Так что же по-вашему с ними делать?
- Перепасе люи дан отр режиман.
- Ага? "перепасе..." А вы, говорю, напрасно им заказываете палантины для ваших "танте" шить.
Полуферт сконфузился и забожился.
- Нон, дьо ман гард, - говорит, - я это просто так, а ву ком вуле ву, и же ву зангаже в цукерьню - выпьемте по рюмочке высочайше утвержденного.
Я, разумеется, не пошел.
Досада только, что чёрт знает, какие у меня помощники, даже не с кем посоветоваться: один глуп, другой пьян без просыпа, а третий только поэзию разводит, да что-то каверзит.
Но у меня был денщик-хохол из породы этаких Шельменок; он видит мое затруднение и говорит:
- Ваше благородие, осмеливаюсь я вашему благородию доложить, что как ваше благородие с жидами ничего не зробите, почему що як ваше благородие из Россыи, которые русские люди к жидам непривычные.
- А ты, привычный, что ты мне посоветуешь?
- А я, - отвечает, - тое вам присоветую, що тут треба поляка приставить; есть у нас капральный из поляков, отдайте их тому поляку, поляк до жида майстровитее.