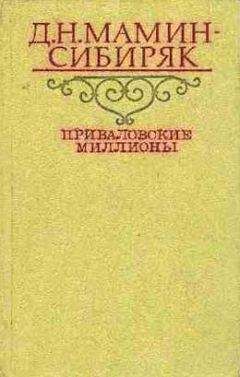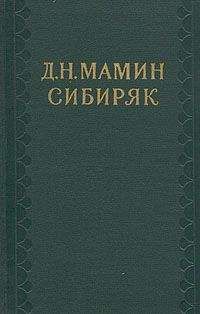«От приваловских миллионов даже дыма не осталось…» Таков финал этой уральской истории.
Сегодня мы наблюдаем интересное явление: современный читатель с удовольствием и увлечением читает этот старый роман. Дело в том, что, как и все истинное в искусстве, роман затрагивает высоконравственные, духовные проблемы, волнующие и нынешнюю молодежь. Произведения искусства долговечны потому, что каждое последующее поколение обнаруживает в нем глубокую и жизненную правду, умеет извлекать для себя уроки, как бы поворачивая к себе произведение все новыми и новыми гранями. История Привалова поучительна. Собираясь делать добрые дела, он столкнулся с хищниками и оказался беспомощным. Значит ли это, что делать добрые дела бесполезно, а хищники всесильны? Конечно же, нет! Высокое человеческое бескорыстие было и остается двигателем прогресса. Были и остаются хищники, рядящиеся нередко под деловых людей Нужно учиться различать их повадки, угадывать за словами, иногда красивыми, истинные цели. Уметь судить по делам, по поступкам. Роман «Приваловские миллионы» – одна из ступенек школы, вооружающей знанием психологии хищников. А такая школа необходима и полезна.
«Приваловские миллионы» стали началом серии больших социально острых романов Мамина-Сибиряка. Возрастало мастерство писателя, обострялось его социальное видение. За «Приваловскими миллионами» последовали еще более интересные романы – «Горное гнездо» (1884), «Три конца» (1890), «Братья Гордеевы» (1891), «Золото» (1892), «Хлеб» (1895) и другие.
Велико литературное наследство Мамина-Сибиряка. В его романах, повестях, рассказах впервые в русской литературе (что и выдвинуло его в ряд крупнейших писателей XIX века) отражены во всей его неприглядности «его препохабие» капитализм и слуги его капиталисты-заводчики. Особенным хищничеством отличались заводчики Урала, в связи с отдаленностью от суда людского. Мамин-Сибиряк знал это, и боль народа была его болью. Он никогда не сомневался в том, что народ России умный, трудолюбивый, талантливый, но задавленный нищетой и невежеством, рано или поздно сбросит цепи, став истинным хозяином жизни.
«Моя цель самая честная: бросить искру света в окружающую тьму», – писал Мамин-Сибиряк. В своих произведениях, изображая резкими красками «жизнь во мгле» заводского рабочего и его лютых утеснителен, исподволь, но неуклонно он подводил читателя к мысли, что самое великое терпение – терпение русского человека – неизбежно должно истощиться. И что тогда? Ответа на этот вопрос нет у Мамина-Сибиряка. Но ведь важен тот вывод, который невольно делает читатель его произведений.
Видный деятель большевистской партии Ф. Сыромолотов, один из руководителей революционного движения на Урале, сотрудник «Правды», автор упоминавшегося уже некролога о писателе, делился своими впечатлениями о творчестве Мамина-Сибиряка: «На мой взгляд, может быть, Мамин-Сибиряк и не отдавал себе отчета, как его творчество вдохновляло нас и будило на борьбу. Он обнажал всю настоящую правду и несгибаемость в борьбе уральского горнозаводского мужика».
Да, книги Мамина-Сибиряка сыграли и эту роль, служа тем самым делу революции. Они вошли в золотой фонд русской культуры. «Земле родной есть за что благодарить Вас, друг и учитель наш». Такими словами приветствовал с Капри умирающего писателя в день его шестидесятилетия М. Горький.
Виктор Стариков
– Приехал… барыня, приехал! – задыхавшимся голосом прошептала горничная Матрешка, вбегая в спальню Хионии Алексеевны Заплатиной. – Вчера ночью приехал… Остановился в «Золотом якоре».
Заплатина, дама неопределенных лет с выцветшим лицом, стояла перед зеркалом в утреннем дезабилье. Волосы цвета верблюжьей шерсти были распущены по плечам, но они не могли задрапировать ни жилистой худой шеи, ни грязной ночной кофты, открывавшей благодаря оторванной верхней пуговке высохшую костлявую грудь. Известие, принесенное Матрешкой, поразило Заплатину как громом, и она даже выронила из рук гребень, которым расчесывала свои волосы перед зеркалом. В углу комнаты у небольшого окна, выходившего на двор, сидел мужчина лет под сорок, совсем закрывшись последним номером газеты. Это был сам г. Заплатин, Виктор Николаич, топограф узловской межевой канцелярии. По своей наружности он представлял полную противоположность своей жене: прилично полный, с румянцем на загорелых щеках, с русой окладистой бородкой и добрыми серыми глазками, он так же походил на спелое яблоко, как его достойная половина на моченую грушу. Он маленькими глотками отпивал из стакана кофе и лениво потягивался в своем мягком глубоком кресле. Появление Матрешки и ее шепот не произвели на Заплатина никакого впечатления, и он продолжал читать свою газету самым равнодушным образом.
– Матрена, голубчик, беги сейчас же к Агриппине Филипьевне… – торопливо говорила Заплатина своей горничной. – Да постой… Скажи ей только одно еловое «приехал». Понимаешь?.. Да ради бога, скорее…
Матрешке в экстренных случаях не нужно было повторять приказаний, – она, по одному мановению руки, с быстротой пушечного ядра летела хоть на край света. Сама по себе Матрешка была самая обыкновенная, всегда грязная горничная, с порядочно измятым глупым лицом и большими темными подглазницами под бойкими карими глазами; ветхое ситцевое платье всегда было ей не впору и сильно стесняло могучие юные формы. В руках Заплатиной Матрешка была золотой человек, потому что обладала счастливой способностью действовать без рассуждений.
– Ах, господи… что же это такое?.. Да Виктор Николаич… Ах господи!.. – причитала Заплатина, бестолково бросаясь из угла в угол.
– Чего тебе?..
– Да ведь ты слышал: при-е-хал…
– Что же из этого?
– Болван! Да ведь Привалов – миллионер, пойми ты это… Мил-ли-онер!.. Ах, господи, где же мой корсет… где мой корсет?
– Отстань, пожалуйста…
– Дурак!.. Ах, господи… Ведь говорила я Агриппине Филипьевне, уже сколько раз говорила: «Mon ange,[2] уж поверьте, что недаром приехал этот ваш братец…» Да-с!.. Вот и вышло по-моему. Ах! вот пойдет переполох: Бахаревы, Ляховские, Половодовы… Я очень рада, что Привалов посбавит им спеси, то есть Ляховским и Половодовым. Уж очень зазнались… даром, что рыльце-то у них в пушку. Вот ужо, погодите, подтянет вас, голубчиков, наследничек-то… Ха-ха… Виктор Николаич, дерево ты этакое, слышишь: Привалов приехал!
– Да отвяжись ты от меня, ржавчина! «Приехал, приехал», – передразнивал он жену. – Нужно, так и приехал. Такой же человек, как и мы, грешные… Дайка мне миллион, да я…
– Отчего же он не остановился у Бахаревых? – соображала Заплатина, заключая свои кости в корсет. – Видно, себе на уме… Все-таки сейчас поеду к Бахаревым. Нужно предупредить Марью Степановну… Вот и партия Nadine. Точно с неба жених свалился! Этакое счастье этим богачам: своих денег не знают куда девать, а тут, как снег на голову, зять миллионер… Воображаю: у Ляховского дочь, у Половодова сестра, у Веревкиных дочь, у Бахаревых целых две… Вот извольте тут разделить между ними одного жениха!..
– Бабы – так бабы и есть, – резонировал Заплатин, глубокомысленно рассматривая расшитую цветным шелком полу своего халата. – У них свое на уме! «Жених» – так и было… Приехал человек из Петербурга, – да он и смотреть-то на ваших невест не хочет! Этакого осетра женить… Тьфу!..
– Ничего ты не понимаешь, – с напускным равнодушием проговорила Заплатина, облекаясь в перекрашенное шелковое платье травяного цвета и несколько раз примеривая летнюю соломенную шляпу с коричневой отделкой. – Разве мужчины могут что-нибудь понимать? По-твоему, например, Привалов заберется с Иваном Яковлевичем к арфисткам в «Магнит» и будет совершенно счастлив? Да? Как Лепешкин, Ломтев… Ведь и ты не прочь бы присоединиться к их компании. Пожалуйста, не трудитесь отпираться… Все вы, мужчины, одинаковы, и меня не проведете! Нет… Насквозь всех вас вижу: променяете на первую танцовщицу.
Заплатина круто повернулась перед зеркалом и посмотрела на свою особу в три четверти. Платье сидело кошелем; на спине оно отдувалось пузырями и ложилось вокруг ног некрасивыми тощими складками, точно под ними были палки. «Разве надеть новое платье, которое подарили тогда Панафидины за жениха Капочке? – подумала Заплатина, но сейчас же решила: – Не стоит… Еще, пожалуй, Марья Степановна подумает, что я заискиваю перед ними!» Почтенная дама придала своей физиономии гордое и презрительное выражение.
– А ты вот что, Хина, – проговорил Заплатин, наблюдавший за последними маневрами жены. – Ты не очень тово… понимаешь? Пожалей херес-то… А то у, тебя нос совсем клюквой…
– У меня… нос клюквой?!
Хиония Алексеевна выпрямилась и, взглянув уничтожающим взглядом на мужа, как это делают драматические провинциальные актрисы, величественно проговорила: