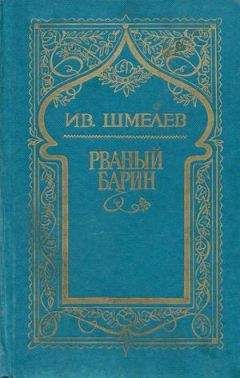– Ишь, щенок-то… такой же черт будет… – слышим мы разговор под окном.
– Его рази?..
– Его… Такой же цыган.
В окне, напротив, отворяется форточка: это Леня высунул голову.
– Александр Иванов!.. Александр Иванов!..
– Тебя, Лександра Иванов, – передают кирпичники. Конторщик уже под окном.
– Я сказал папаше… Папаша велел прибавить по гривеннику…
Форточка захлопнулась. Я хочу крикнуть в форточку, окликнуть Леню. Я рад, сам не знаю – чему, прыгаю на одной ноге, кувыркаюсь по ковру и кричу:
– Лахудра!., лахудра!., лахудра!.. Мы все поем это слово.
– Ты думаешь, – это кто сделал? – спрашивает брат.
– Ну, конечно, Леня…
– Верно. Помнишь, плакал он?..
– Это когда Цыган расквасил кирпичника?..
– А кто по-твоему лучше: Леня или дядя Захар?
– Конечно, Леня.
– Верно.
Форточка бьется под ветром, струя холодного воздуха бегает в комнате, и в ней чувствуется неуловимый запах зимы. Она идет… она скоро придет… Я увижу белый двор, голову Бушуя, высматривающую из конуры на шайку, и ворон, обирающих нашу шершавую растрепу.
Я увижу ледяные елочки на окнах и дрожащее в них холодное пламя подымающегося из-за конюшни зимнего солнца.
II
Четыре часа дня. Майское солнце заливает двор.
Каретный сарай раскрыт, и из его темной глубины, где пахнет дегтем и кожей, несутся глухие удары но настилу. Мы выбегаем в верхние сени и наблюдаем из окна. Спуститься вниз жутко: запрягают на пробу новую, еще дикую лошадь.
Старичок барышник-цыган с другим волосатым цыганом привели ее сегодня к постоянному покупателю и любителю зверских лошадей – «чертей» и «огневых», – дяде Захару. Он любит покупать и менять этих зверей с кровяными глазами. Он любит их объезжать, править и покорять. За это удальство мы многое прощаем ему и забываем кирпичников. Мы проникаемся уважением к его отваге. И не мы одни: весь наш двор, даже ближайшие дворы, лавочники и старичок-будочник, на этот случай забирающийся в сарай.
Перед сараем толпа: бараночники с засученными рукавами, балагур лавочник Трифоныч с красным носом и в загнутом на угол фартуке, и мрачный кузнец с завернутыми в тряпку подпилком и молоточком, и зашедший с улицы мороженщик. Даже старичок из богадельни, покупающий у бабки Василисы молоко, забрался для безопасности на крылечко и заглядывает в сарай. Все ждут: в прошлом году лошадь вынесла дядю Захара из ворот, перемахнула через мостовую на тротуар и врезалась оглоблями в окно. Может быть, и сегодня что-нибудь будет.
Лошадь бьет ногами, и старичок на крылечке тревожно поглядывает, но не уходит.
Мы видим, как по сараю мечется кучер Архип, и дворник Гришка как-то боком вертится под дергающейся черной головой. Они шипят, протягивают ладони и закладывают таинственно, ни на секунду не отводя беспокойных глаз от танцующих ног. Мы знаем, что Гришка страшный трус, и для него это мука. После такой запряжки он, обыкновенно, идет в лавочку к Трифонычу, в дальнюю комнатку, и выходит оттуда покашливая и с покрасневшим лицом, а Трифоныч подвигает к нему на прилавке маленькие мятные прянички. Мы только смутно догадываемся, что это делается в большой тайне.
– Готово? – зычно несется с галереи.
Толпа оглядывается. Из сарая выглядывает встревоженное лицо Гришки.
– Шлею оборвал-с!.. сей минут-с… – Тоже не с бабой возиться… – бормочет он под нос.
– С ба-абой… – слышится из толпы. – Другая и без копыта ляганет…
– Тпрру-у!.. тпррр, черт!..
Толпа откидывается. Старичок-будочник бежит из сарая и шашкой осаживает зевак.
– Пускай… отходи… отходи…
Из сарая выпрыгивает, подкидывая легкие дрожки, «зверь», задирая голову так, что дуга касается спины, и, кажется, еще один взмах – и дрожки взлетят на воздух.
– Ух ты… лёв!.. И растрепет он ево!..
Барышники висят на оглоблях, а Архип прыгает под головой и шипит.
Мы видим, как дрожь пробегает по могучему, пламенному корпусу «черта», клочья пены летят на Архипа, а Гришка сидит на дрожках, придерживая вожжи.
– Убьет… ты! – кричит он на кого-то.
– Ворота! ворот! отворяй!..
В окне показывается дядя Захар и смотрит. Его глаз дергается. Он любуется своим «чертом», которого он должен покорить и обломать.
– Сам… – бежит шепот.
Дядя Захар на дворе. Он в высоких сапогах и перчатках. На его лице жесткая усмешка, точно он хочет кого-то ударить.
– Прочь! – кричит он на зрителей, но никто не двигается: все знают, что окрика больше не будет и что «сам» любит, чтобы на него смотрели.
Он решительно идет к морде «черта», берет за уздцы и дергает с силой к земле. Мигом отскакивают барышники и Архип. Теперь дядя Захар и «черт» остаются один на один. Дядя оправляет холку и дует зачем-то в воспаленные ноздри.
Толпа в восторге.
– Захар Егорыч!.. Архипа-то бы взял… – просит тетя Лиза с галереи.
Она всегда тревожится, но она боится дядю, и потому в ее голосе слышится и покорность, и страх.
– Разобьет еще…
– Не ва-ше де-ло!.. ступайте к се-бе!.. – отчеканивает дядя злым голосом и берет вожжи.
«Черта» снова держат барышники, не позволяя закинуться в сторону, направляя голову на ворота.
Дядя Захар упирается ногами в устои дрожек, засматривает под передок, наворачивает вожжи, убирает голову в плечи. Старичок с крынкой, оглядываясь, бежит к воротам.
– Пу-ска-ай! – сдавленным голосом кричит дядя. Миг, грохот дрожек, – и толпа уже на мостовой.
– Пошла!.. И-эх, садит… и-и…
Мы опаздываем. «Черт» и дядя Захар уже пропали в пыли.
– Намедни кучера убил, – говорит цыган, сверкая зубами. – Ежели, конечно, к рукам… Вот по ем будет.
– К ей только прямо подойтить, она с однова раза, при-мает… – хвастает Гришка. – Да вот запрошлый год я Стальную объезжал… Уж как она меня холила!
– Ври, – объезжал!., у, пес ласковый… – говорит Архип. – Пойдем-ка к Трифонычу…
Толпа расходится. Мы только теперь замечаем Леню. Он высунулся из своего кабинетика, оперся локтями на железный карниз и задумчиво смотрит. Он уже не пускает змеи, не играет в бабки, а читает в своем кабинетике или занимается склянками и баночками. Он «химик», как называет его иногда дядя Захар, и не любит болтаться. Мы не прощаем ему его важности, стараемся всегда мешать, а мой приятель Степка, внук Трифоныча, научил меня петь под окном;
Ленька-линючий,
Кошку замучил!..
Сейчас Леня смотрит на улицу. Его лицо, очень похожее на лицо дяди, – серьезно, даже строго. Я знаю, что он пролежит на подоконнике до возвращения дяди, потом сбежит с галереи и будет гладить укрощенного «черта».
Часа через два Гришка отворяет ворота, и снова собирается толпа. Въезжает дядя. Лошадь в мыле, бока избиты медными пряжками вожжей и тяжело ходят, на порванных губах пена, и гордая голова опущена. Дядя без картуза, немного прихрамывает, и весь правый бок егб затерт грязью. Леня около отца, его всегда бледноватое лицо розовеет, глаза блестят.
– У, дьявол! – говорит дядя лошади, тяжело переводя дух. – Эй, Сендрюк! – кричит он цыгану. – Ступай к Васильеву!.. Буду сейчас…
– Это значит – в трактир, где будет торг.
– С лошадкой-с, Захар Егорыч, – поздравляет плут Гришка, стряхивая грязь с дядиной куртки. – Маненько покачнула-с?
– Пшел! Проводить хорошенько и – в денник… рядом с Поддецом!..
Это любимая лошадь дяди Захара. У него есть еще Стервец. Этого «черта» он назовет тоже как-нибудь чудно, и мы предполагаем, что новая кличка будет Мерзавец, или Шут, или что-нибудь в этом роде.
– Ну, как, Ленюк? – говорит дядя Захар, забирая Ленину щеку железными пальцами. – Подрастешь – куплю тебе такого дьяволг, что…
Дядя треплет Леню по посиневшей щеке и говорит ласково, что нас удивляет:
– В меня будешь, шельмец… Так? Ишь плечи…
И, опираясь на плечо сгибающегося Лени, идет, прихрамывая, на галерею.
– Через три часа воды дать!.. Эй, ты, черт!.. Архипка!.. Смотри у меня!.. Бока ему протри!..
– В меня, что ль, а? – говорит дядя Захар, снова забирая алую щеку.
Мы смотрим вслед, и, право, мне хочется, чтобы Леня был в дядю, только не весь.
III
Зима надоела. Скорей бы показывалась черная проталина в нашем саду, под вишней, где мы уже разгребли снег. Да, она скоро покажется. Уже начинает проваливаться наша гора; уже несколько дней печально звонят в церквах. Вчера приказано принести из амбара «паука», – круглую щетку на длинной палке, – обметать потолки. А это надежный признак: скоро Пасха.
Ура! В сухарницу высыпали из пакета «жаворонков»!.. Весна идет… весна! Я часто высовываю голову в форточку и слушаю, – не идет ли весна, не гремят ли колеса… Да, где-то гремят…
А еще как недавно мы кричали: ура! – когда закружились первые белые мухи, и Гришка выкинул из сарая дровянки.