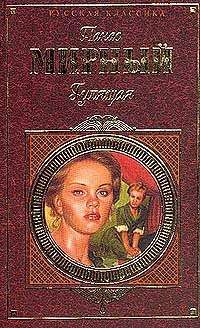В обед снова прется Грицько.
- Господи, и чего его носит, этого дядьку! - сказала Христя, увидев Грицька.
- Где мать? - спросил он, войдя в хату.
- На печи,- ответила Христя. Приська так и не слезала с печи.
- Чего лежишь? Вставай, собирайся в город за мужем! - начал он.
- Чего я за ним пойду? Неужто сам не придет? - поднимаясь, простонала Приська.
- Придет... Как раз... дожидайся... Замерз! - отрывисто закончил он.
При этих словах Приське будто кто нож всадил в бок; она дернулась, рванулась... и точно окаменела - хоть бы слово вымолвила, хоть бы вздохнула! Только обезумевшими глазами уставилась на Грицька.
Христя тоже глянула на него, посмотрела на мать, закрыла руками лицо, прижалась головой к печи...
- О мой батенька, мой родненький! - крикнула она в беспамятстве и затряслась всем телом.
У Грицька мороз пробежал по спине от крика Христи; но не такой он был человек, чтобы его можно было слезами разжалобить; он прошелся по хате и стал рассказывать:
- Был это я в волости... носил подушное... При мне бумагу получили, объявить жене, детям или каким-нибудь родственникам, чтобы пришли в город опознать... Замерзшего нашли в снегу... Загнибеда как будто опознал... Так чтобы взяли похоронить, если хотят... Там около него и новые сапоги нашли и еще какие-то вещи... Из волости хотели за тобой нарочного посылать, да я сказал, что все равно буду на том краю, зайду и скажу.
Закончив, Грицько посмотрел на Приську, потом перевел взгляд на Христю... Приська молчала, Христя голосила. Он снова прошелся по хате, раз, другой; снова поглядел на дочь и мать... Никто не угадал бы, что светилось в его глазах: радость ли, или тайная злоба. Лицо у него перекосилось... По хате разносились вопли Христи.
- Вы ведь слышали? - глухо спросил он и, повернувшись, вышел вон. Вслед за ним, как живой укор, вырвался неистовый крик Христи и растаял на дворе. Грицько, вздрогнув, повернул на улицу.
- Ой мамочка!.. Ой родненькая!..- кричала Христя, подходя к матери.Что нам теперь, бедным, делать?..
Она глядела на мать заплаканными глазами, а мать на нее - сухими, пылающими, как огонь.
- Ох ты, горе, горюшко! Ох ты, злая долюшка! - прижимаясь к матери, причитала Христя.
Приська все глядела на нее безумными глазами и дрожала. И вдруг, словно треск раздался из-под земли, сдавленный, неясный звук... Страшный хриплый крик вырвался из груди Приськи, и она залилась безумными слезами... Прижавшись к Христе, она охватила руками ее голову и страшно-страшно завыла:
- Моя доченька, моя голубушка, пропали мы навеки!
На дворе насупилось; в хате потемнело. И в этой тьме, точно совы, перекликались дочь и мать. Тонкий и внятный крик дочери сливался с хриплым воем матери, разносился по хате, бился о стены, стлался понизу... Тоска и печаль глядели из темных углов.
До самых сумерек голосили дочь и мать. Забыли и про обед, забыли про все на свете. Одарка Здориха, услышав со своего двора их страшные вопли, пришла узнать, что стряслось у них, и насилу добилась у Христи, что они плачут об отце. Она стала было утешать Приську, дескать, все это, может, неправда... чего только люди не наболтают,- но только еще больше растравила ее старое сердце, еще горше заставила плакать. Приська от слез слова вымолвить не может, только начнет говорить - и тут же зальется слезами. Грустная, невеселая, ушла Одарка домой.
Смеркалось. Серый свет на дворе, как туман, колыхался над землей. В хате - тьма кромешная: только замерзшие окна сереют, будто затянутые бельмами глаза, и тихо-тихо, как в могиле. Замолкли дочь и мать. Пора и перестать, ведь бывает конец и слезам, бывает конец и воплям: хрипнет голос, высыхают слезы, оседают на сердце, в глубине души. На смену им мысли встают, думы пробуждаются, одна другой безотрадней, одна другой безрадостней. В темноте они ширятся, яснеют; минувшее встает перед глазами, будто только сейчас все было; люди проходят - живые люди; слышна их речь, их живые голоса... их ропот, смех, радости, слезы.
Обуяли тяжкие думы и Христю с матерью. Забившись в угол на постели, дочь устремила безумный взгляд на серые окна, и на белесом их поле ей рисуется в мыслях отец... ее отец, низенький, плотный, круглолицый, рыжеусый, с добрыми карими глазами. Каким он был сам, такие были у него и глаза; недаром говорится, что глаза - зеркало души. Он и в самом деле был добрый, никогда ее не обижал, бывало, и мать удержит, когда та очень разбранится... И с людьми он был такой, скорей от своего отступится, чем на чужое польстится. Мать, рассердившись, скажет, бывало: "Что ты за человек? Экая ты квашня! За себя постоять не умеешь!" А он ей в ответ: "От бешеной собаки беги без оглядки"! Такой он всегда был; и пьяный - поскорее уляжется спать, не так, как другие: выпьет на копейку, а придет домой и начнет куролесить... И вот теперь его не стало... "Где он? Слышит ли он, как мы горюем о нем, видит ли наши слезы?.. Душа, говорят, с девятого дня по свету летает,- может, и его душа теперь среди нас?" Как бы ей хотелось увидеть его душу, поговорить с нею!.. Расспросить, так ли на том свете, как и на этом?.. Смерть, говорят, всех равняет; на том свете всё, говорят, наоборот: тут было голодно и холодно, там - сытно и тепло; тут томилась твоя душа, там сердцем возрадуешься; тут мужиком был, там станешь паном... Это и отец теперь пан?.. Хотелось бы ей увидеть отца паном... Она б его попросила, чтобы и ее сделал панной. Да нет уж - пропади они пропадом эти паны, такие они гордые да фальшивые - только душу загубишь; лучше уж на том свете... А на этом? Да немножко бы достатка побольше, да одежку бы праздничную, а то и в будень и в праздник - все в одном! Сапоги бы новые, сережки серебряные, такие, какие она видела у Марины, которая служит в городе, когда та навещала своих. Хорошо бы и перстень к сережкам, тоже серебряный и по руке, не такой, как у Горпины,- и серебряный, да такой большой, как обруч: чтобы надеть, куделью пришлось обмотать...
И пошла Христя в своих девичьих мыслях перебирать все нехватки, пошла выкладывать свои заветные желания: невелики они, страх как невелики, да ведь и того нет у нее,- и сердце ее тоскует, что теперь вот умер отец и не видать ей ничего этого никогда.
О чем же думает Приська, забившись на печь и сжав обеими руками голову? Видится ей теперь ее прошлое - ее доля, ее злая доля, которая гнала ее по белу свету, пока не занесла в Марьяновку... Она - дочь казака, маленькой осталась без отца, без матери; холера скосила их... и родственники, какие были, перемерли, а она вот осталась... осталась у чужих людей, пасла деревенское стадо гусей, пасла свиней, телят, пока не подросла. А там снова работа, работа на людей, не на себя. Служила она у своих, служила у евреев, служила и у купцов... Вдова-купчиха, которая каждый год разъезжала по городам, наняла ее напоследок за хлеб да одежду прислуживать ей в дороге. Богатой и еще не старой, ей не сиделось в родном углу, и она таскалась по Харькову, Киеву, Одессе. Приська, верная служанка, ездила всюду за нею, причесывала и одевала свою хозяйку. Собрались они как-то в Киев. Перед отъездом Приське все что-то нездоровилось; руки болели, ноги болели, голова болела, так что на свет не глядела бы. Да вот пришлось все-таки ехать. Добрались они до Марьяновки, и Приська совсем слегла... Что было потом, она не знает; она пришла в себя уже в хате Грицька Супруненко. Он тогда был приказчиком у помещика, и хозяйка бросила ее у него, потому что так велел управитель немец. Приська выздоровела и все ждала, что хозяйка приедет и возьмет ее с собой. Да, видно, та не очень о ней думала, потому что долго что-то не возвращалась. Приська хотела наняться к кому-нибудь из казаков, но Грицько не пустил: "отслужи сперва за тот хлеб, что съела, пока тут валялась!" Приська осталась. Тут она и с Пилипом встретилась: он был у приказчика в работниках. Одинаковая доля, одинаковое горе сводит людей... Грицько такой сердитый, крикливый; жена его Хивря такая язва, только и слышно, как Хивря ругает Приську или Грицько кричит на Пилипа... Батрачка и крепостной как-то сошлись, жалуясь друг дружке на свою участь. Приська сразу приметила, что у Пилипа и глаза карие и ус шелковый. Сердце Пилипа тоже привлекли стройный стан Приськи, ее тихий нрав, ее милый голос... Они стали встречаться все чаще и чаще. То, смотришь, Пилип погнал скотину на водопой, а Приська- хвать ведра! и тоже побежала за водой... То Приська кинулась за топливом в огород, а Пилип уж тут как тут!.. Приська уже и за хлеб отработала, а все нейдет со двора, все жалуется Пилипу, какая Хивря сердитая. Как-то раз сошлись они ночью в саду под яблоней. Пилип яблоки стерег, а Приська... чего Приська тут оказалась, она и по сию пору не знает, а может, просто забыла... Не забыла она только, как в ту ночь целовал Пилип ее и без того горячее лицо, как клялся, что любит ее и век будет любить; как обещался, что только они поженятся, он поставит новую хату и они заживут на своем хозяйстве. Приська не соглашалась, потому что Пилип - крепостной. "Разве крепостные не люди? спросил он.- И крепостные на земле живут, не под землей..." Подумала, погадала Приська: позади у нее сиротская доля, голая, босая и простоволосая, а впереди... нужда и недостатки, вечная работа на чужих, вечный труд... Хорошо, пока здоров человек, пока сила есть, а захворает, как недавно с нею случилось? Без семьи, без пристанища, хоть помирай под забором. Правду говорит Пилип: и крепостные на земле живут, не под землей... И она согласилась. Пошли они к управителю, а он не только не запретил, а даже похвалил ее за то, что она неволи не испугалась. Говорил, что это, может, у других панов страшна неволя, а у них... Он, мол, им новую хату даст, и огород, и поле для нового хозяйства. В первое же воскресенье они обвенчались. Хоть и соврал управитель, надавав кучу обещаний, да не все ли равно Приське на кого работать? То на купцов да на евреев работала, а теперь - на пана: объезженный конь везет и под гору и в гору. Да и управитель не совсем наврал: хоть огорода и новой хаты не дал, зато велел жить в соседях с Грицьком; все же у них свое хозяйство. Правда, Грицько ругается: "Носит тут нелегкая лодырей, и всё на мою шею!" Хивря честит Приську на всю Марьяновку: "И такая-сякая, и неряха, и непутевая!.." Да ведь Пилипу и Приське к брани не привыкать стать. Живут они себе вдвоем тихо да мирно... Через год родился у них сын Ивась, на другой год - дочка Христя. Ивась не выжил у них, погиб, а Христя поднялась и росла себе. И то утеха матери: вырастет, будет помощница. Так прошло тринадцать лет; на четырнадцатом году обрадовались они толкам о воле. Это уж были не те глухие толки, что всегда ходили в народе, а доподлинная весть,- и поп о ней читал в церкви. Свободней вздохнули Пилип и Приська: уж теперь-то они поживут на воле! Через два года и впрямь дали всем волю. Пилип землю получил, две десятины. Сколотился и на хату, свою собственную хату!.. Господи, как радовалась Приська! Не жалея рук, обмазывала и облепляла она глиной свою хату, чтобы и зимой не дуло, да и летом в дождь не текло... Правда, за все это приходилось платить 1, [1 В черновом автографе романа после этих слов идет следующий текст, опущенный в печати, возможно, по цензурным соображениям: "Хотя Приське до сих пор невдомек, почему надо платить за то, что они заработали своим вековечным трудом".] а все легче: и хата своя, и не слыхать больше ни ругани Грицька, ни попреков Хиври. Работает Приська сама себе на своем огородике; Христя помогает ей. Не нарадуется мать, глядя, как растет на воле ее дочка. "Тяжелое, горькое было наше житье,думала тогда Приська,- может, детям будет получше". И она лелеяла в сердце надежду, что найдется, бог даст, хороший человек ее доченьке,- примут они зятя в хату. Пилип уже постарел, да и она никудышная стала,- пускай идет зять в примаки, пускай молодые на глазах у стариков учатся хозяйничать: всё им отдадим.