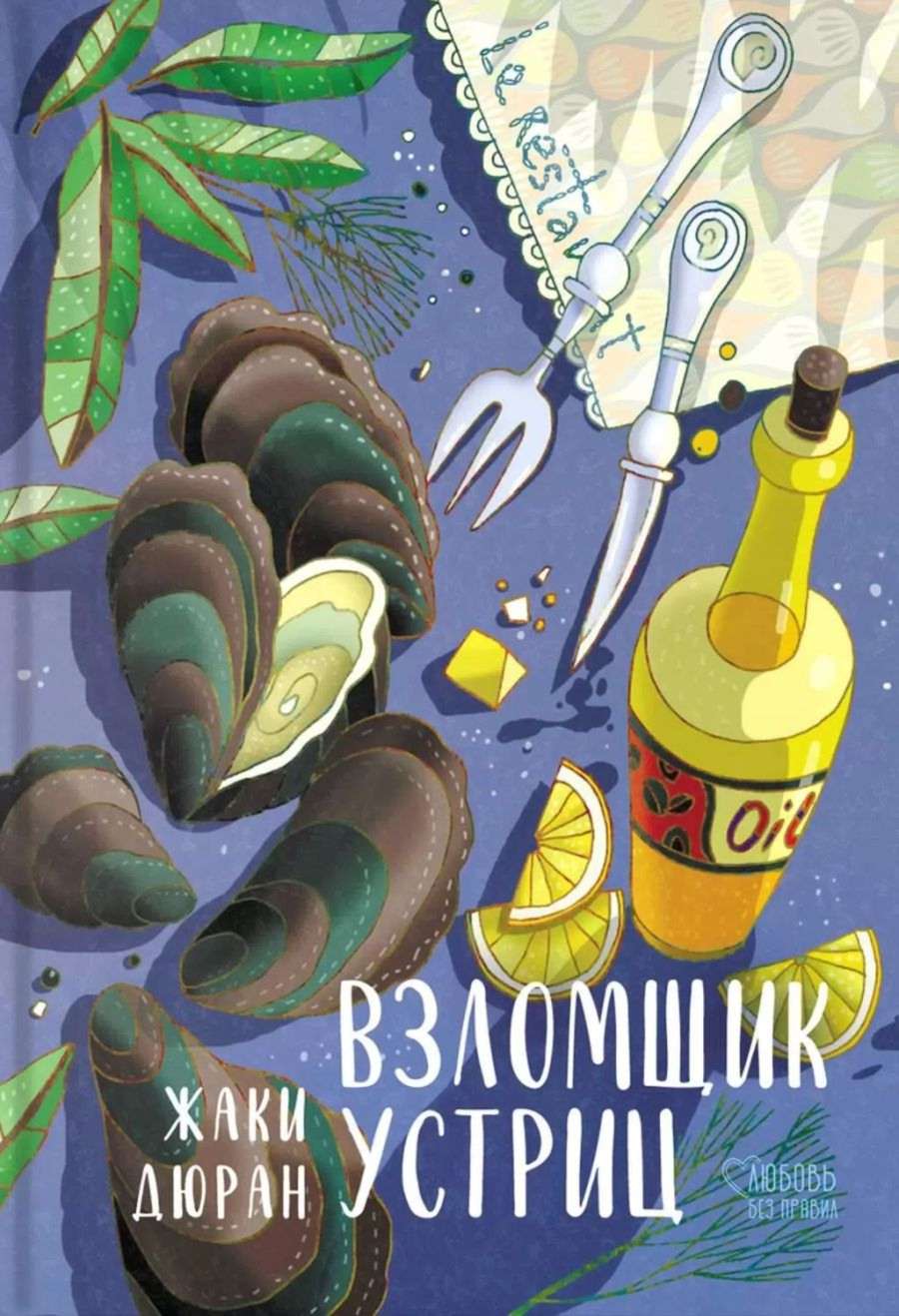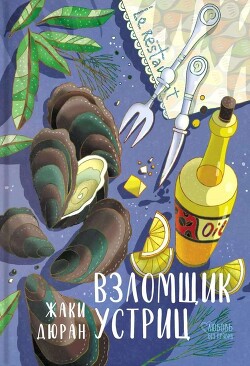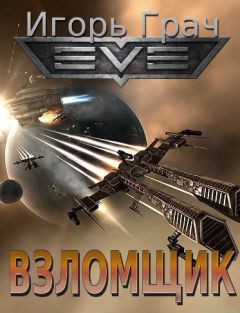ты. — Кипяток что угодно испортит». Потом раздается рев кофемолки. Ты ненавидишь фабричный кофе, который подают в ресторане. Тебе нужен твой «крепкий черный кофе», как ты говоришь. Смесь арабики и робусты, от этого кофе горчит и отдает горелым. Ты всегда так его варишь — на целый полк — в большом металлическом кофейнике. Он стоит на плите, пока поздним вечером ты не выпьешь последнюю чашку и не пойдешь спать. Только ты можешь пить такой кофе, «крутой, как правда», усмехается Люсьен, когда заваривает себе чай.
Когда запах кофе проникает на второй этаж, я поднимаюсь с постели. Бегу к вам в комнату, потому что хочу убедиться, что мама еще спит. Но на самом деле я боюсь, что кровать пуста и мама ушла. Каждый раз какое-то странное чувство страха сжимает мне грудь. Но ведь еще накануне она мне говорила «я люблю тебя», а я крепко обнимал ее, лежа в кроватке. Мне всегда надо крепко-крепко прижать ее к себе, а потом уже спать. Вечером мама пахнет кремом «Нивея», тем же, которым она мажет мне щеки, если на улице очень холодно. Ты бросаешь из комнаты:
— Спокойной ночи, малыш! — А вчера вечером ты добавил: — Завтра вместе приготовим бриошь [6]?
Я весело крикнул:
— Да!
Мама прошептала мне на ухо:
— Ты мне дашь поспать завтра утром, поросенок?
И этим утром я осторожно толкаю дверь и вижу прядь волос цвета красного дерева в зазоре между одеялом и подушкой, в которую мама зарылась с головой. Папа свистит внизу.
У меня есть любимая игрушка, потрепанный медвежонок, я беру его на кухню, а потом приходишь ты.
— Встал уже, — говоришь, притворяясь, как обычно, удивленным. — Убери игрушку от огня. Ты и так ему уже ухо сжег. Проголодался?
Я отрицательно мотаю головой. Ты берешь меня под мышки и сажаешь на стол рядом с плитой. Металлическая поверхность холодит попу через пижаму. Ты наливаешь себе немного кофе половником, который сразу кладешь на место. Мне нравится это легкое и аккуратное движение. Кофе еще не сварился, и ты облокачиваешься на стол рядом со мной. Опускаешь нос в чашку и вдыхаешь аромат. На ощупь находишь свою пачку «Житана». Вытаскиваешь одну сигарету и оббиваешь об стол. Чиркаешь зажигалкой, проводя колесиком себе по ляжке, и глубоко затягиваешься, так чтобы дым попал в легкие. Не знаю почему, но мне достаточно прикоснуться к твоей теплой ладони, чтобы полюбить этот немного звериный запах табака.
Ты тушишь сигарету и хлопаешь в ладоши, скомандовав:
— Теперь бриошь!
Вытаскиваешь кубик дрожжей из ящика под окном. Мне поручается раскрошить их в миску, куда ты уже налил молока. Я нюхаю эту смесь, и от кисло-сладкого запаха кружится голова. Он немножко похож на мамин запах, когда жарко. Разбиваешь яйца, насыпаешь муку. Ты ничего не отмеряешь, как и соль. Жонглируешь ложкой, которая всегда под рукой и служит тебе мерилом всего, с ее же помощью ты все пробуешь. После того как ты опускаешь ее в мясную подливку или в варенье из ревеня, моешь ее в тазике вместе с другими приборами, которые использовал для готовки. Тщательно вытираешь кухонным полотенцем. Ты не носишь ни белой рабочей одежды, ни поварского колпака. Только застиранные синие фартуки, белую футболку и джинсы. Ты без носков, в больших черных кожаных тапках. Иногда ты делаешь перерыв и отбиваешь ритм на кастрюлях, насвистывая что-нибудь из репертуара Сарду или Брассенса. В воскресенье на кухне ты слушаешь кассеты. Чаще всего Грэма Олрайта [7]. Ты наизусть знаешь песню «До пояса». Ты горланишь, выкатывая глаза:
— «Воды было по уши, а старый дурак сказал идти вперед». — И затем говоришь: — А теперь насыпь мне муку горкой, как будто холмик из песка делаешь.
Я с наслаждением запускаю руки в муку, шелковистую на ощупь. Я высыпаю на металлический стол эту белую субстанцию. Еще мне нравится ощущать в руках вес говядины, легкость луковой шелухи, измельчать корицу, гладить нежную кожицу спелых персиков.
— А теперь в горке делаешь углубление, как колодец роешь. — Ты ненавязчиво мне помогаешь, а потом добавляешь молока и дрожжей.
Я хочу разбить яйца.
— Обожди, мы по-другому сделаем. — Ты ставишь передо мной миску. Я должен разбить яйцо о край, но у меня ничего не получается: желток смешивается с белком и со скорлупой. Ты улыбаешься: — Ничего страшного. — Берешь еще одно яйцо и другую миску, но испорченное не выбрасываешь.
Ты ничего не выбрасываешь — ни зелень лука-порея, ни куриные косточки, ни кожуру от апельсина. Ты виртуозно превращаешь все это в бульон или посыпку. «Твой отец и сигаретный дым использовал бы, если б мог», — говорит Люсьен.
— Заново, — вот что ты говоришь, вынимая из миски скорлупу первого яйца.
Я ликую: мне удается правильно разбить второе яйцо. Ты энергично взбиваешь яйца и вводишь в муку. Встаешь у меня за спиной, направляешь меня:
— Давай, а теперь месим тесто, месим.
Я старательно вымешиваю тесто, а когда оно начинает приставать к пальцам, смеюсь. Ты ворчишь:
— Не занимайся ерундой, нужно, чтобы тесто стало эластичным.
Ты добавляешь масла, и я облизываю указательный палец, потому что люблю вкус масла, которое мы по воскресеньям покупаем в сырной лавке, где еще берем сливки и сыр — конте, морбье и бле де Жекс.
Ты выдыхаешь:
— Отлично. — И перекладываешь тесто в большую миску, которую накрываешь полотенцем. — Увидишь, как тесто в два раза в объеме увеличится. Так, а сейчас пошли за устрицами для мамы.
Мы живем в маленьком городке и о море можем только мечтать. Если идти по улочке вверх, к мэрии, то можно увидеть что-то типа пещеры, как будто вырубленной в скале. Там находится рыбный магазин. Мне пять лет, и его чрево меня пугает. Продавец похож на одну из своих жутких рыбин-тилапий. Он постоянно шмыгает носом, как будто вечно простужен — и зимой и летом. А еще говорит так, будто у него во рту полно камней, пьет белое вино из бокала, заедая креветками.
Я торчу у аквариума — вид плавающей в нем форели меня привлекает и одновременно огорчает. Мне жалко, что скоро рыбы умрут от того, что им по голове дадут колотушкой. Мне грустно примерно так же, как когда я вижу, что мама лежит одна в постели и смотрит в окно.
Как-то она лежала под скомканным одеялом без ночной рубашки. Она не видела, что я пришел, и курила сигарету из папиной пачки. Вокруг нее витал сигаретный дым, и она тоже витала где-то в своих