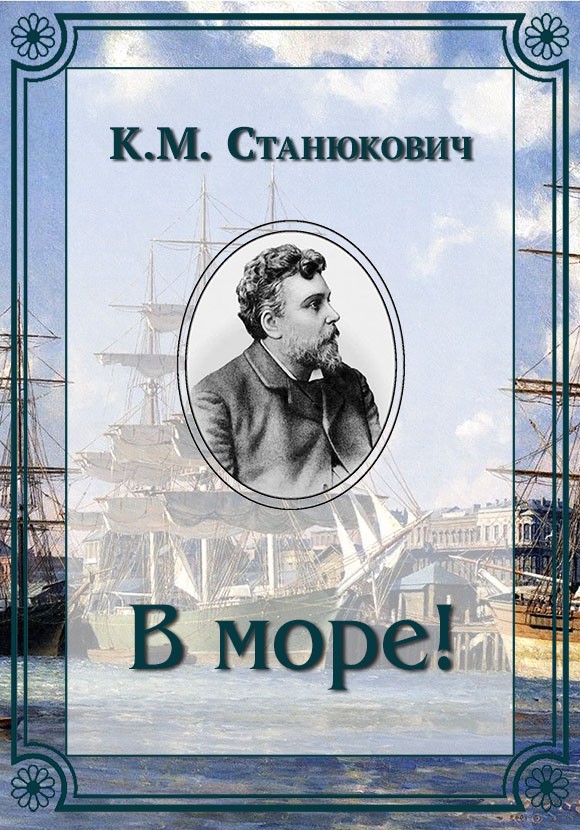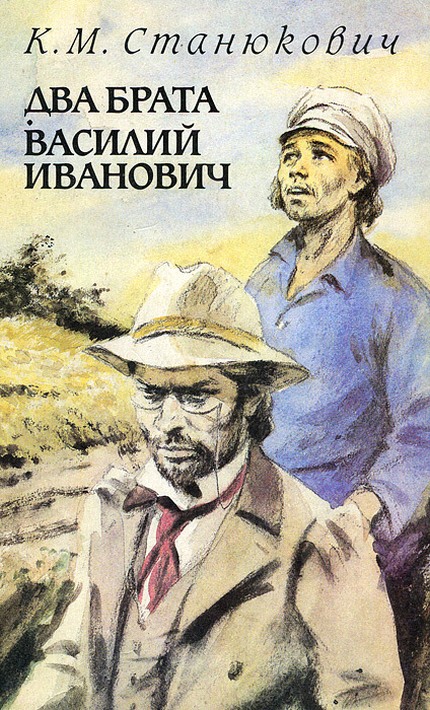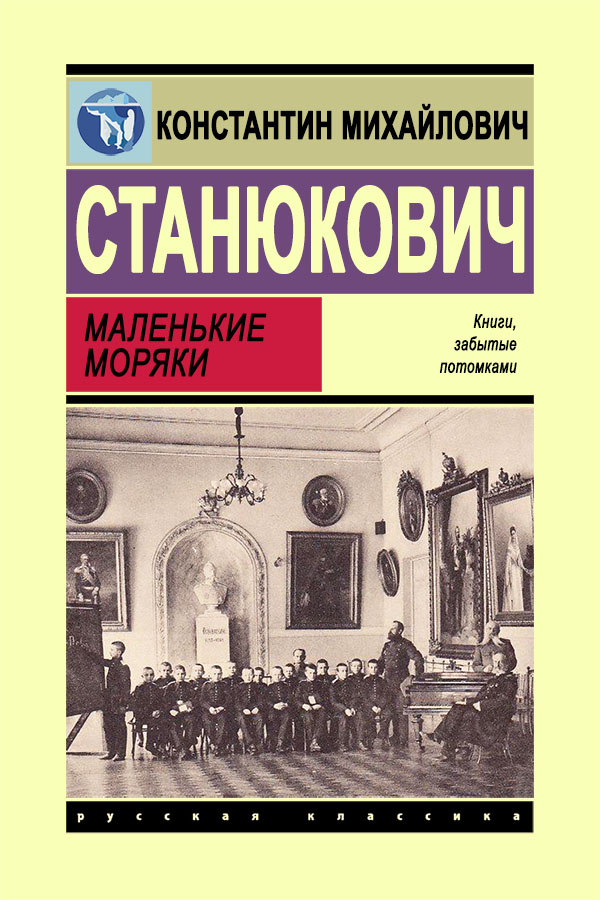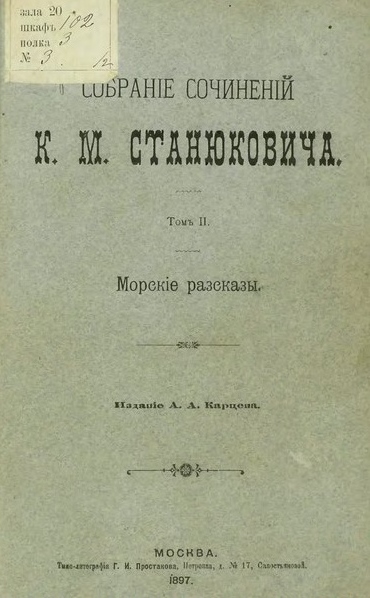с его позволения (хотя Радугин вовсе его не давал), знакомить его, и довольно таки основательно, с содержанием своей последней повести: «Она». При этом еще делала авторские комментарии.
— Вы понимаете, конечно, почему я не сделала свою героиню красавицей? У вас необыкновенно тонкий вкус… вы поймете. Не правда ли?
Радугин обещал понять и беспомощно озирался, мысленно посылая своего собрата к черту.
— Она не дурна, но не красавица. Красавицы обыкновенно бывают пошлы и глупы, и я удивляюсь, что многие писатели часто рисуют героинь красавицами. Она не красавица, но недурна… Знаете ли, выразительное такое лицо с печатью дум на челе…
Из дальнейших комментарий Радугин понял, что его мучительница описывает себя в этой героине, девушке тридцати лет, которой на вид можно дать «всего двадцать», презирающей современный брак, как «низменную пошлость», так как душа героини, жаждущей познать все тайны бытия, не находит в окружающих мужчинах ни одной родственной души. Он догадался, что сама авторша в этой умной и развитой Евлалии (так звали героиню), не побоявшейся кинуть «перчатку» обществу устройством приюта для шести покинутых младенцев, и его подмывало посоветовать ей сделать свою героиню безобразной, худой, как спичка, с лицом похожим на лягушечье, с выкаченными самодовольными глазами и с руками, ногти которых в трауре, — но у него не хватило духа сделать это, и он продолжал слушать с видом человека, обреченного на смертную казнь, завидуя тем счастливцам, которые не имели несчастья знакомиться с содержанием повести «Она».
Уж дело дошло до того, как один «милый юноша» влюбился в героиню, и как героиня, с чувством старшей сестры смотрела на робкие проявления любви, как в эту минуту подошла Марья Ивановна и сказала, показывая свои ослепительные зубы в чарующей улыбке:
— Простите, что прерываю вашу беседу… Позвольте похитить от вас Аркадия Сергеича… Аркадий Сергеич! Дамы просят вас в гостиную.
Радугин вскакивает с кресла с такою стремительностью, точно в кресле вдруг очутилась игла. А «молодая» писательница раздраженно поводит плечами и, презрительно глядя Радугину вслед, решает, что он такой же пошляк, как и прочие смертные, и не имеет ни малейшего литературного вкуса.
— Ну что, рады, что избавила вас? — шепчет Марья Ивановна, уводя Радугина в гостиную.
— Уф! — облегченно вздыхает писатель.
Усадив его между дамами да так, что удобно улизнуть не предстояло возможности, Марья Ивановна возвращается в кабинет и не без некоторых усилий добывает оттуда и доктора из Абиссинии и тоже сажает его таким образом, что доктору так же трудно убежать, как и итальянским пленным от Менелика.
И бедняга покоряется року. Он сперва коротко отвечает на вопросы Марьи Ивановны относительно Менелика, его жены и раса Маконена, но, заметив, что в гостиной воцаряется молчание, и все взоры с мольбою взирают на него, он начинает говорить, мысленно давая себе слово поскорее уехать из Москвы опять в Абиссинию, где нет журфиксов.
Устроив маленькую конференцию, Марья Ивановна снова исчезает, чтобы приказать подавать ужин пораньше.
Как ни внимательно все слушали рассказчика и как, казалось, ни интересовал всех быт господ абиссинцев, но тем не менее, когда появился лакей и доложил, что кушать подано, все, не исключая и лектора, словно бы пробудились от радостной вести и, необыкновенно оживившиеся, торопливо направились в столовую, где длинный стол был установлен закусками и бутылками.
Вздремнувший старик весело говорил, что страдает бессонницей. А те два «бессовестные господина», которые весь вечер сидели, как «пни», и те, мгновенно просветлевшие, внезапно заговорили между собой о том, с какой начать водки: с простой или померанцевой.
Марья Ивановна всегда имела желание рассаживать за ужином своих дорогих гостей, группируя их «по европейски», то есть таким образом, чтобы около каждой дамы (будь то хоть сама волшебница Наина) обязательно сидел кавалер (только, само-собою разумеется, не муж, не родной брат и не глухонемой), который, как и подобает благовоспитанному джентльмену, накладывал бы своей соседке, не излишествуя, конечно, подаваемые кушанья, остерегаясь при этом облить соусом новое ее платье, занимал бы ее, в промежутки между проглатыванием кусков, более или менее умным разговором и, пожалуй, даже слегка-бы ухаживал, находя свою соседку очаровательной или по крайней мере (при абсолютном безобразии) необыкновенно симпатичной. Подобное невинное ухаживание допустимо, конечно, только в том случае, если ваша супруга не сидит vis-à-vis, обладая при этом остротой зрения копчика и тонкостью слуха мыши.
Такое желание милейшей хозяйки обусловливалось не только стремлением оживить ужин, но и более возвышенными альтруистическими чувствами. Что там ни говори, а соседство с дамой, особенно, если она не трещит без умолка как сорока, не лишено некоторого эстетического и при том облагораживающего удовольствия. Это во-первых. А во вторых, когда вы разговариваете за ужином с барыней, то, разумеется, не предадитесь излишествам и невольно забудете да и просто стеснитесь дуть, словно бы квас, хозяйский лафит, бутылка которого стоит три рубля, и то «по случаю», как уверяет радушный хозяин.
И до лафита-ли вам, когда вы и без того несколько опьянены беседой о задачах родительского кружка да еще с очень миловидной и бойкой барыней, которая собирается прочесть (уж материалы все собраны) интересный реферат о том, что детям, страдающим насморком необходимо, со всех точек зрения, давать не один, а два, три и даже четыре носовых платка. Марья Ивановна, как умная женщина, отлично понимала эту психологию, да и вообще считала себя тонким психологом, так как в прошлую зиму прослушала две лекции по этому предмету.
И несмотря однако на несомненный организаторский талант милейшей хозяйки, несмотря на ее решительный темперамент и знание человеческого сердца, все ее старания придать ужинам, так сказать, более возвышенный характер на почве духовного общения кавалеров и дам, разбивались, как волны об утес, о постыдную косность мужчин. С упорством, достойным лучшего применения, они отстаивали разделение полов (и именно за ужином), свидетельствуя таким образом о своей отсталости и как бы о своей боязни дам.
И Марья Ивановна (как вероятно и большинство хозяек, у которых бывают журфиксы) должна была прийти к грустному заключению о том, что в Москве, несмотря на обилие милых, просвещенных, ученых и замечательных людей, очень мало настоящих кавалеров, дорожащих женским обществом во время трапез, и что, вообще говоря, и мужья и жены несравненно интереснее, умнее и оживленнее, когда они порознь, а не вместе. Решительно следовало бы приглашать их отдельно, если бы это было возможно сделать без опасения прекращения дипломатических сношений.
Вот хоть бы взять милейшего Ивана Ивановича. Уж на что он папильон («Куда хуже моего!»