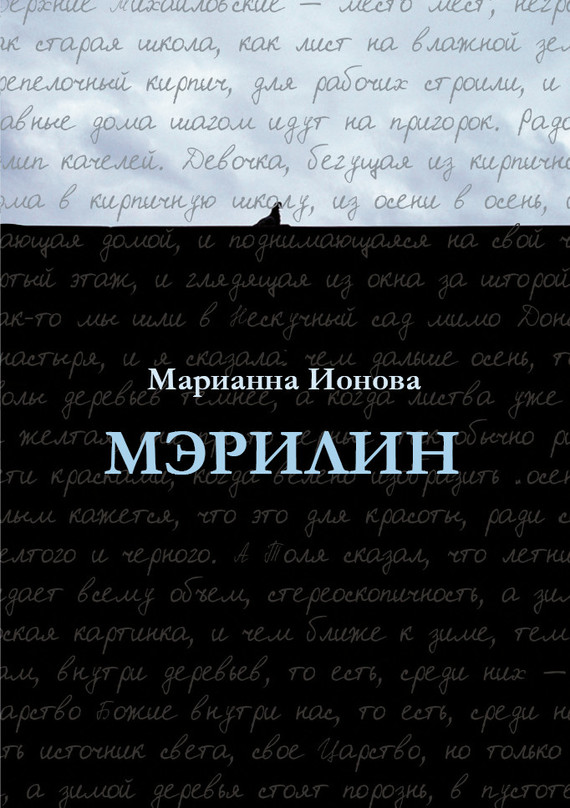в каждый из которых можно свернуть и сможешь свернуть, если однажды не придется идти так быстро. Она стала пролистывать женские журналы на стенде в супермаркете. Она заглянула в бутик белья – ей хотелось и носить то, что носят женщины, не ради него, а ради себя, и, наверное, поэтому ничего ей не подошло. Она наблюдала за собой, за тем, как дотрагивается до разноцветных клавиш игрушечной фисгармонии и прислушивается к шоколадному аккорду, клубничному аккорду, ванильному аккорду, аккорду ожидания, аккорду саможаления, аккорду томной мнительности, аккорду, в котором гордость, покой, смирение и бесстыдство. Она вошла туда, где ее прежде не было. И то, чего для нее прежде не было, стало. Не все здесь ей было нужно, но она касалась и ненужного, просто потому, что и это есть.
Она вдруг останавливалась, вспомнив, что ей нравится заниматься любовью, улыбнувшись, что ей нравится заниматься любовью, как будто поймав дуновение ветра.
Его проникновение так и осталось внутри нее и теперь всегда было с ней. Вспоминая, она почти вызывала въяве ту сладкую предельность, которая, кажется, разве может длиться даже секунды.
Она думала о Великом посте, который теперь, и они казались ей голыми детьми.
Он кидал ей ссылки на фильмы Михаэля Ханеке и Брюно Дюмона. Когда они виделись, и она признавалась, что до сих пор «не удалось посмотреть», он пересказывал фильмы эпизод за эпизодом. Она слушала, ведь ей надо было что-нибудь слушать, как ему – что-нибудь говорить. Она давала ему говорить, понимая, что ему не просто бывает найти, о чем говорить с ней. Им хотелось говорить друг с другом, и они помогали друг другу.
Нет-нет, только плохие снимки старым телефоном. Они никого не обманут. Они напоминают, что реальность – не для фотографии. В них есть смирение.
Это улица Хромова, говорила она. Ты бывал на ней? Вот старик – гимнастерка, бейсболка, палка, – он, наверное, хромов и есть, гений улицы, дед-хранитель, дух ее.
Как когда ты убыстряешься, кажется, что улетаю в космос, так здесь кажется, что уже улетела и космос длится. Космос и переводится – красота, но что прекраснее, что важнее: здесь или между нами.
Ветер сбрасывает за шиворот плоды тополя, толкает карусель, на которой никого нет. Хлопают плоды тополя, ударяясь о землю, о плечи и о макушку.
Дух, пух. Тополь давно уже посеял семя, и теперь улица бесплодна, бесплотна, теперь улица снова невинна.
Если б он мог рассказать о ней матери.
Если б он мог рассказать о ней Ване.
Москва этим летом была похожа на закулисное пространство сцены по ходу подготовки масштабного оперного спектакля: толпятся чем-то занятые рабочие, проплывает только что смонтированная декорация, и снова монтаж.
Но ее это не касалось, она по-прежнему ездила гулять подальше от центра. Где можно было ходить. Заходить во дворы. Идти вдоль подъездов кирпичного дома. Слышался иногда перестук столовых приборов и, совсем изредка, голоса скандалящих. Телевизор, как ни странно, реже. Музыка по радио. Музыка живая. Однажды – кларнет.
Говорила ему она о другом. О том, что возблагодарила Бога за свою близорукость, потому что с расстояния в несколько метров, на улице или на платформе метро, часто встречает его, пока чужое лицо не становится различимо. О том, что не кается в блуде. О том, что слова Ницше «Бог умер» для Бога не страшны, потому что Бог уже умирал и все, что когда-либо будет сказано, на самом деле уже преодолено.
Она не говорила ему о том, что один долгий поцелуй стоит всех ее социальных служений, всех дежурств на приеме подарков для бездомных и многодетных. Что купила два освященных кольца с молитвой: одно вот, на пальце, а второе, мужское, положила под иконы. Что иногда ей кажется, будто она скучает по самой себе до него, по своим воскресеньям до их воскресений.
У него никогда не было «левых» вариантов.
Он повторял себе: это не «лево», это никакое не «лево». Заставляя себя вздрагивать от возмущения и боли, ведь подносил к ней близко само и перед глазами у него стоящее в кавычках, нарочно куцее, как все похабные слова куцые, слово.
Вот и Лену он чувствует своей женой не меньше, чем раньше. Это чувство Лену женой, чувство к Лене-жене не ушло, что верно доказывает – никакого нет «лева». Нет измены, потому что Лена никем не заменена, тут все остается на своих местах, а она ничему тут не грозит, потому что она – это она. Он не может от нее отказаться, и не должен, потому что это будет не ради Лены.
Он не может от нее отказаться, потому что отказываться некуда. Если не будет того, что теперь, ничего не будет, все перестанет, да и перестать нечему, потому что могло быть и стало только то самое, что теперь. Он не мог представить, хотя и пробовал, как было бы, не будь так, как теперь, не будь ее в его жизни. Она потому и есть, что это не «лево», а это – только так и больше никак. То, чего никогда с ним было. И теперь он знал, что все это правда, та правда, в которую он не верил, то счастье.
Счастье. Он знал, что знает его теперь.
Единственно – когда Лена сказала ему, что беременна, и затем, но еще сильнее – когда Ваня родился. Когда Ваня родился, когда он впервые увидел его, взял на руки. Это было единственное похожее на то, что теперь.
В каждое первое мгновение, когда он наконец-то видел ее. Среди выходящих из церкви. Из метро. Когда он сам выходил из метро и взгляд находил ее. Каждый раз, когда ее лицо рождалось.
Я тебя не осуждаю, сказала мама.
Я тебя не осуждаю, сказала она не с тайным презрением, не с великодушием, а со страхом. Когда при маме упоминался он, говорилось о них, мамины лицо и осанка начинали приближаться, но никогда не приближались к оцепенелости, останавливались на полдороге, и то же в ответ на любое интимно-женское.
Она чувствовала, и впервые, досаду на то, что с матерью они не подруги. Она смотрела на маму, сидящую за столом в профиль к ней, и будто читала, что нет ничего безгрешнее этого профиля.
Он подумал о том, что искусство – это навязчивое стремление создавать формы и разрушать, бежать их, и что, несмотря на все эксперименты, соната, суть которой четкая заданная форма, сохранилась, что искусство, где можно крутить