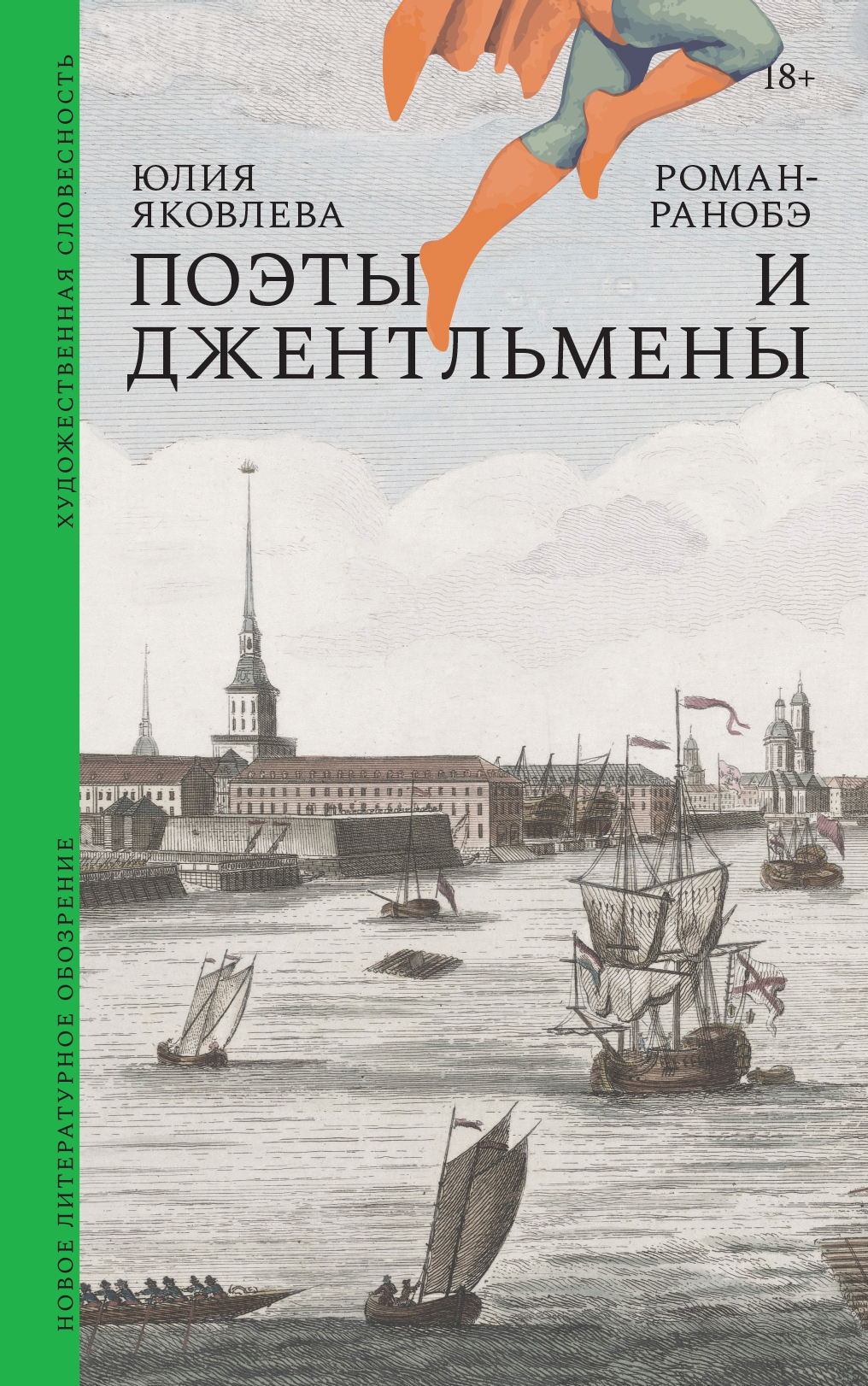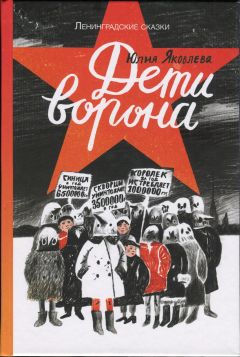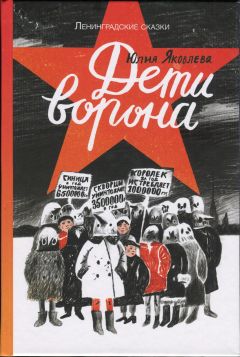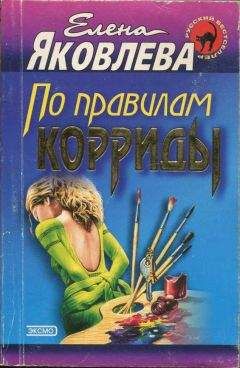передавали камни и ведра с раствором.
Лермонтов опустил взгляд, проводил последний эскадрон. Опустил ладонь. Да, были люди в наше время. Запахнул плащ. И, не оглядываясь, пошел восвояси, старательно обходя кучки овечьего гороха.
***
Пробка ударила в потолок. Потом запрыгала где-то по полу. Пушкин скорее наклонил бутылку:
– Человек. Герой. Вот что всегда в центре истории. Вы сукины дети, господа.
– Я чувствую себя каким-то патриотическим Курочкиным, – конфузясь, прикрывал ликование Чехов.
Гоголь дрожал, съежившись, как вареная черноморская креветка, в глаза не смотрел:
– Мой Кошка очень похож на Вакулу? Скажите мне только правду… Заклинаю, правду. Он похож на Вакулу? Я повторяюсь?
Но руку с бокалом выдвинул. Подставил под шипящую струю.
– Вакула ваш вышел отличный! – щедро, но бестактно утешил Чехов.
Гоголь показал между прядями волос заполошный глаз – но Пушкин опять не успел заметить их цвет.
– Фамилия смешная, – ревниво похвалил Лермонтов. – Кошка. Остроумно.
Комплимент Гоголя доконал.
– Неужели они не видят! – взвизгнул, взмахнув бокалом. – Что он ненастоящий!
Шампанское плеснуло на пол.
– Какая им разница? – тут же долил до нужного Пушкин. – Важно, что он им нравится!
И пока Лермонтов не всадил новую шпильку, повернулся к нему:
– Но что вы сделали, Николай Васильевич, что этот ваш Кошка так здорово держится по ночам?
– Восемнадцать ночных разведок подряд! – восхитился Чехов. Он любил точные цифры.
– Но все же вы поосторожнее, – заметил Пушкин. – Этот ваш хохол может привлечь чрезмерное внимание. Внимание – привести к вопросам. А вопросы – к…
– А он в самом деле – кошка? – Лермонтов мрачно смотрел поверх бокала.
– Поэзия должна быть глуповатой. – Пушкин боднул его бокал своим. – Прекрасно, друзья! Ура!
Бокалы сдвигались, бокалы звенели. Подошвы липли к лужице шампанского на полу.
***
– Эдуард Иванович! – Корнилов быстро положил поверх исписанных страниц промокашку. Поднялся навстречу, так что пламя свечи заметалось. Собрал лицо в приветливую гримасу.
Выглядел Тотлебен скверно. Пшенично-ветчинная тевтонская краса словно облезла. Вокруг запавших глаз легли черные круги, щеки провалились, усы и волосы из золотистых стали пыльно-серыми. Взгляд оловянный. Взгляд человека, для которого нет ни ночи, ни дня. Только работа – с кратким провалом во тьму под присмотром адъютанта, которому велено «поднять через час». И по возможности разбудить. Корнилов милосердно перешел на немецкий:
– Как вы, мой друг?
Сам он выглядел, должно быть, не лучше. Так как Тотлебен – тоже из рыцарских соображений – ответил по-русски:
– Херня какая-то, Владимир Алексеевич.
Сил ворочать языком не было. Корнилов приподнял веки: что?
– Мы ждали штурма с северной стороны. А его не было.
Корнилов попробовал сказать лицом: но это же хорошо.
– Хорошо, – подтвердил Тотлебен. – Мы получили время. Успели возвести укрепления. Они начнут бомбить с моря. А мы готовы.
Корнилов пожал плечом. Мол, так хорошо ж.
– Я не говорю: плохо, – уточнил Тотлебен. – Я говорю: херня какая-то. Почему англичане отступили?
Его немецкая, хорошо проветриваемая голова отказывалась это понимать. Его логичный инженерный ум чуял какой-то подвох конструкции:
– Это неправильно.
Корнилов пожал другим плечом.
– Но так случилось, – сумел извлечь из себя звуки.
– Если бы они пошли на штурм, город пал. Бы.
– «Бы» нет.
Два слова были сопряжены столь сложной русской грамматикой, что мозг Тотлебена заскрипел на холостых оборотах:
– Was?
Корнилов хлопнул товарища по плечу:
– Что об этом думать. Идите поспите, Эдуард Иванович. Идите. Теперь время есть и на это.
Не стал добавлять: потом его не будет.
Выпроводив тщательного немца, снова сел за стол. Поднял и отложил промокашку. На чем я остановился? Глаза тупо смотрели на паучий чернильный след, который никак не складывался в буквы, в слова. Я это вообще писал? Разобрал последнее слово: «…херня». Вот и Тотлебен заметил. Странно все это. Взял перо. Превратил «херню» в густой чернильный прямоугольник. Начал заново: «Должно быть, Бог не оставил еще России».
Перо остановилось. Бог? Ладно, что уж придираться к выражениям. Ну а кто? Перо впилось в бумагу. Прокололо. Корнилов опомнился, отнял жало. Поклевал им в чернильнице. Решил держаться фактов: «Конечно, если бы неприятель пошел на Севастополь, то легко бы завладел им».
И все-таки этого не случилось. Он тупо уставился на чернильные петли. Бы.
– Владим Алексеич.
Корнилов вздрогнул. Опять надвинул сверху промокашку. Батя вдвинулся, стреляя глазами по темным углам. Подошел к самому столу. Корнилов невольно положил поверх дневника ладони – как будто Батя мог читать сквозь бумагу.
Но тот на стол и не глядел.
– Владим Алексеич… – И доверил шепотом, как тайну: – Что за херня?
– Павел Степаныч, иди и ты поспи.
– Разведчик ночью пришел. В лагере неприятеля, кажись, холера.
– Холера приходит, – бесцветно возразил Корнилов. – Такое бывает. Обычное дело. Особенно в южной местности.
– Холера никогда не приходит кстати.
– Я не врач.
– Нет, – согласился Батя. Но видно было, что не успокоился. Зыркнул в один угол, в другой. Убедился в чем-то. Подступил: – Владим Алексеич, а к вам никто не приезжал?
– В смысле? – сквозь туман в голове спросил Корнилов.
– Внезапно. Старый друг.
Батя ощутил неловкость. Отмахнулся сам от себя:
– А, забудьте. Вот кончится все это… Попрошу у государя отпуск. После всей этой заварухи. Ей-богу, попрошу! И поеду в Лондон. Ей-богу. Приду к лорду Реглану. И скажу: дорогой сэр, вы осел.
Корнилов подошел к нему вплотную. Почувствовал запах пота.
– Конечно, херня, – выдавил.
Батя вскинул глаза. Тоже в черных кругах, как рисунок на капюшоне индийской кобры. Но глаза ясные, разумные. Корнилов решился:
– Павел Степаныч. А тебе не кажется, что нам кто-то… что-то… помогает?
Глаза Нахимова метнулись в темный угол.
– Нам?
Потом в другой угол.
– Кто?
И там застряли. Значит, и ему что-то в этом деле показалось странным, если не сказать таинственным. Корнилов заговорил смелее, откровеннее:
– Помнишь бой на «Владимире»? Против турецкого «Перваз Бахри».
– Турка? Как же, помню.
– Я стоял на кожухе. Турки ударили картечью. Я сразу понял: это мне. Видел пороховой дым выстрела. Видел, как откатилась пушка. Как полетела картечь. Как рой. Я все это видел, Павел Степаныч. Я знал, что это смерть моя летит. Моя смерть. Я стоял, смотрел, как она летит. А потом мне на руки упал Гриша Железнов. А на мне ни царапины.
– Бывает.
– Картечью ему врезало в грудь. И он погиб. Лейтенант. Большие надежды. Тридцать один год. Моей картечью!
– Он закрыл вас собой.
– Он ли? – горько усмехнулся Корнилов.
– Люди вас любят.
– Меня? Э, нет. Люди любят жизнь. Но дело ведь не в любви. Дело в том, что Гриша Железнов умер. А я – жив, хотя не должен бы.
– Одна жизнь нужнее другой.
– Кому нужнее?
Нахимов не нашелся с ответом. Не успел – Корнилов вдруг метнулся мимо него, к закрытой двери. Замер подле нее, приложил ухо:
– Кто здесь?
Нахимову стало жутко. «Даль?» – чуть не окликнул он вслух, опомнился: «Бред. Откуда здесь быть Далю… Ведь верно? Ведь правильно?» Но сердце билось в горле, тем более гулко оттого, что Корнилов вел себя пугающе – точно не только слышал мысли Нахимова, но разделял их: тихо отступил от двери, тихо положил ладонь на медную ручку. Надавил вниз. Замер. И убрал ладонь. Не решился открыть. Не рискнул