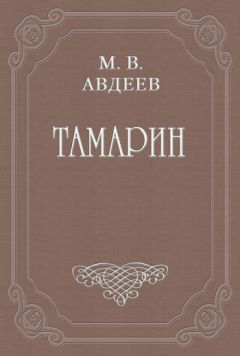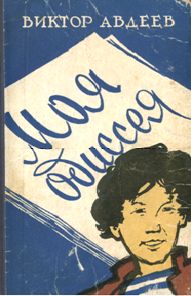В таком положении был Иван Кузьмич, когда вошедший слуга доложил об Иванове. Иван Кузьмич посмотрел на него через очки, сделал вид, как будто задумался, хотя не имел и мысли отказать Иванову, и наконец сказал: «Проси».
С Ивановым Иван Кузьмич был всегда любезен и, сколько мог, прост. Есть люди, перед которыми никто не важничает и не говорит свысока, хотя бы они были и молодые и ниже: чувствуется, что перед ними-то бесполезно и даже неловко. Кроме того, Иван Кузьмич любил Иванова и уважал как дельного человека. Поэтому он его принял, как принимал только равных себе.
– А я сегодня не пошел в присутствие, – сказал он, после обычных приветствий, – голова что-то ужасно болит, так, вот, начиная с этого места вплоть до затылка. Уж кофеем лечусь. Не прикажете ли?
– Благодарствуйте: я не пью, – отвечал Иванов. – А у вас сегодня слушается дело NN?
– Да, знаю! Родственника Петра Петровича, с этой вдовой… как бишь ее? Забыл фамилию! Ну, да она должна его проиграть, я думаю.
– Не знаю. Я, со своей стороны, подал мнение за нее, – сказал Иванов.
– Мнение! Гм! Мнение! А позвольте полюбопытствовать, нет ли его с вами.
– Вот у меня черновая: я нарочно принес вам показать.
Иван Кузьмич поправил очки, закинул голову назад, придал было бровям глубокомысленное выражение, но с первых же слов приподнял их в виде восклицательного знака, да так и оставил.
Иванов между тем закурил сигару и пытался рассмотреть картину, на которой ничего не было видно.
– Гм! – сказал Иван Кузьмич, складывая бумагу и передвинув брови. – Вы рассматриваете вопрос с новой точки зрения. Конечно, по-вашему, вдова права, а взгляните-ка на нее с прежней точки, так и выйдет вопрос нерешенный.
– Мне кажется, она со всех сторон права, – сказал Иванов.
– Нет, не говорите! Да притом же у родственников-то Петра Петровича детей-то что! Да все мал-мала меньше.
– Это к делу нейдет.
– Ну нет, уж вы этого не говорите! Ну да и Петр-то Петрович ведь, знаете, человек эдак с весом, ну да и с гонором человек: не любит, чтобы ему на ногу наступали.
– Кто ж это любит, – заметил Иванов.
– Вы все шутите! А дело щекотливое, верьте мне. Ну вот теперь следствие поднялось в Тарараевой. Дело кляузное! Концов не соберешь; в третий раз переследуют. Ну как туда вас турнуть! Да и Петр-то Петрович человек почтенный, знаете: это его огорчит; а у него приливы крови бывают к голове…
– Послушайте, Иван Кузьмич. Вы хотите, чтобы я говорил серьезно, – извольте! Дела тарараевского я не боюсь, даже нахожу, что это очень любопытное дело. Что же касается до Петра Петровича и его приливов крови, до того, что ему многие кланяются, оттого, что у него есть родня и знакомые, которым он сам кланяется вдвое ниже, – все это нисколько не изменяет ни дела, ни моего взгляда на него. Приливы крови и родство не юридические факты. Я хотел только показать вам свое мнение, но не изменю его.
И Иванов взялся за шляпу.
– Да! – сказал Иван Кузьмич, переменив тон и поправив очки. – Действительно, с вашей точки зрения, вы справедливы, – совершенно справедливы, хотя с другой точки и можно сделать возражения. Но проклятая головная боль сегодня мне покоя не дает, и мыслей даже никаких нет в голове, – совсем нет! Точно пустой бочонок! От этого и в присутствие не поехал… Так, вот, с этого места вплоть до затылка… Водки не хотите ли? У меня есть так называемая семи-отрад: удивительная!
Иванов отказался, пожал Иван Кузьмичу руку и вышел.
Иван Кузьмич, притворив дверь, покачал вслед ему головой, спросил, дома ли жена, и пошел к ней: он чувствовал необходимость высказаться кому-нибудь.
У Марион сидел князь Островский. Он был весьма доволен раздачей билетов, потому что это давало ему случай перебывать в двадцати местах в одно утро и очень нескучно убить его. В строгом смысле, он более развозил новости, чем билеты, и собирал более слухов и сплетен, чем денег.
Вероятно, много сообщил он любопытных вещей Марион, довольно равнодушно его слушавшей, прежде нежели рассказ дошел до него; но в настоящее время речь его коснулась близкого нам предмета.
– А-х, забыл вам рассказать уморительную вещь! – говорил Островский. – Был я сегодня у Тамарина. Он только что встал, закусывает и пьет вместо чая зельцерскую воду. «Что, – я говорю, – приятель, верно, вчера шампанского выпил?» «Нет, – говорит, – на ночь скукой объелся». «Признайся, верно, рассердил кто-нибудь», – говорю я. «Да как, – говорит, – не рассердиться: целый вечер видеть перед глазами глупейшую идиллию – Имшину с Ивановым; да тут, – говорит, – еще»… – Островский остановился.
– Что такое? – спросила Марион.
– А тут вы подтрунили над его прежней слабостью… Зато, кажется, и досталось от него Имшиной; да еще он жалел, что она скоро уехала.
– Не говорите, пожалуйста! – сказала Марион. – Тамарин был вчера неизвинителен.
– Ну уж и неизвинителен! Помилуйте! Девочка была от него без ума, с досады вышла замуж за Володю: прекрасно! Но вот проходит каких-нибудь пять лет, Тамарин возвращается и вдруг видит пополневшую барыню, очень довольную своим мужем, который позволяет ей любезничать с каким-нибудь Ивановым… Да это, надеюсь, хоть кого взбесит!
– Да! – сказала Марион. – Действительно, как не страдать ей весь век по Тамарину!
– Да уж лучше страдать весь век по Тамарину, чем утешаться Ивановым. Но послушайте. Этим история не кончилась. Мне хотелось посмотреть на огорченного любезника: ведь Иванов вчера все слышал. Заезжаю к нему, он как будто и ничего, только волосы встрепаны; приятель у него сидит; о чем же начали они меня расспрашивать? О прежних отношениях Тамарина к Имшиной!
– Ну вы, я думаю, не поскромничали, – заметила Марион.
– О, нет! Конечно, я рассказал им кое-что: но поверьте, далеко не все, что знаю. Да Иванову и говорить нельзя: он и так-то всегда серьезен, а влюбленный должен быть просто свиреп. Подумает еще, что клевещу, скажет: фактов подавай…
– Здравствуйте, князь, – сказал Иван Кузьмич, входя. – Вы, верно, говорите про Иванова: вообразите, каких вещей он мне сейчас насказал! Говорит: и родство Петра Петровича, и связи его – все, говорит, это не юридические факты; ему, говорит, все кланяются оттого, что он сам кланяется вдвое ниже… да и пошел и пошел.
– Ха, ха, ха! Ну да ему сегодня можно извинить: он не в своей тарелке, – сказал Островский.
– А что?
– Да так: его муха укусила!
– То-то я вижу, что, должно быть, муха укусила, – заметил глубокомысленно Иван Кузьмич. – Человек просто в петлю лезет. Видите ли, дело есть одно, – кляузное дело у вдовы одной с родственником Петра Петровича. Ну вдова-то с некоторой стороны права, хотя с другой точки зрения и представляется затруднение. (Островский поправился на креслах, будто неловко сидел.) Я, признаться, знаете, чтобы и вдову-то не обижать, ну да и Петр Петрович человек знакомый и всегда так любезен со мной; я и в присутствие не поехал; думаю, пусть их там; а Иванов-то, как вы думаете, бряк мнение за вдову… как будто она ему теща какая-нибудь или свояченица.
– Что ж, разве ему за это достанется? – спросила Марион с любопытством.
– Нет, матушка! Кто говорит: достанется! Он был вправе это сделать. Даже с некоторой стороны, то есть с одной стороны, он и справедлив; да мнение! Ведь молодые люди шутят мнением… Я вот тридцать три года служу, да никогда своего мнения не подавал, да, признаться, не люблю, когда и другие подают. Иванов – хороший человек, дельный и честный человек, да беспокойный, беспокойный. Ну что он теперь Петра Петровича вооружил против себя: он шутит Петром Петровичем, ему горя мало! Говорит: справедливость! Ну а вот как пошлют тарараевское дело переследовать: вот ему и справедливость и юридический факт! Да это и… и… и… – Иван Кузьмич замотал головой и не договорил.
Островский этим воспользовался и встал.
– Постойте, князь, куда же вы?
– Нужно; дела есть, – сказал он, торопясь уйти.
– Подождите, – сказала Марион. – Увидите вы сегодня Тамарина?
– Как же! Мы вместе обедаем.
– Скажите ему, чтоб заехал вечером.
– Непременно! А меня что ж не зовете?
– Вам будет скучно со мной и мне с вами едва ли не тоже.
– Вы меня вечно огорчаете; поеду утешаться, – сказал Островский.
– Да чего лучше, князь! Хотите семи-отрадной? Чудная водка; по секрету рецепт достал! Пойдемте ко мне.
– И как нельзя больше кстати. А меня сейчас Григорий Григорьич угостил какой-то белибердой, должно быть, трех горестей: к нему жена с детьми приехала.
И он ушел с Иваном Кузьмичом в его кабинет.
Все, что слышала Марион про Иванова, ее беспокоило. Его расспросы Островского, его вмешательство в дело, которое могло навлечь ему неприятности, в чем убедил ее еще более Иван Кузьмич во время обеда, она приписывала раздражительности влюбленного, оскорбленного вчерашней выходкой Тамарина и дошедшими до него слухами о Вареньке. Совестливость Марион упрекала ее. Добрая душа, она считала себя отчасти причиной всего происшедшего: не затрагивай она раздражительного самолюбия Тамарина, может быть, ничего бы и не было. А тут из-за ее прихоти нарушается тихое счастье скромного существа. Иванов, которого она мало знала, но считала за хорошего человека, может повредить себе, и вообще затевается какая-то история, как очень часто, из-за ничего, благодаря праздным толкам они затеваются в небольших городах, и в эту историю будет впутано имя Вареньки, к которому, как доброе существо к доброму, она чувствовала невольное расположение. Все это мгновенно представилось Марион, как только она услыхала болтовню Островского и рассказ мужа; выходка Тамарина ей и без того не нравилась, и поэтому она поручила Островскому пригласить Тамарина к себе, чтобы высказать ему свое неудовольствие, как позволяет это себе всякая хорошенькая женщина с мужчиной, который за ней ухаживает.