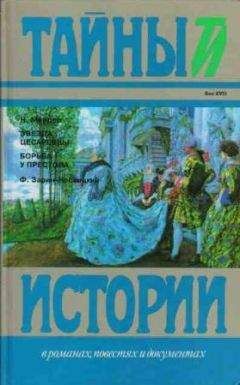Но делать было нечего. Прасковья Юрьевна уже входила в комнату. Императрица приняла ее с видимой радостью.
Живая и бойкая, Прасковья Юрьевна сделала глубокий реверанс императрице, запросто, по – родственному поздоровалась с царевнами, кивнула Василию Лукичу, улыбнулась фрейлинам, щипнула за ухо Арйальда и быстро заговорила, бросив выразительный взгляд на герцогиню Мекленбургскую. Та слегка наклонила голову.
– Ваше величество, а я к вам с презентом. Анна улыбнулась.
– С презентом? – спросила она. – В чем дело?
– Сейчас, ваше величество, – позвольте этому мальчику (она указала на Арйальда) велеть принести презент. Я его оставила в приемной.
– Иди, Ариальд, – сказала заинтересованная императрица.
Заинтересованы были и все окружающие, даже сам Василий Лукич.
Через несколько минут вернулся Ариальд в сопровождении камер – лакея, осторожно несшего за ним довольно большой ящик нежного палисандрового дерева. По указанию императрицы ящик поставили на столик перед ее креслом. Василий Лукич подошел ближе. Все столпились около столика.
Салтыкова бегло взглянула на Екатерину и вынула из кармана ключик. Медленно, словно для того, чтобы возбудить еще большее любопытство, она открыла футляр. В футляре оказались часы. Она вынула их и поставила на столик.
– Вот так презент! – с удовольствием произнесла Анна, любуясь часами.
Часы действительно были красивы. Серебряный циферблат с золотыми стрелками был вделан в скалу из белоснежного фарфора. Скалу увенчивала группа, изящно исполненная, изображающая Амура и Психею.
Часы шли. Салтыкова надавила пружинку, и они отчетливо, серебристым звоном, пробили три и четверть.
– Это ежели проснуться ночью, – пояснила она, – то и без огня можно узнать, который час.
Анна, как ребенок, любовалась часами.
– Да откуда у тебя это чудо? – спросила она. – Спасибо, Прасковья Юрьевна.
– А это мужу привез саксонский резидент Лефорт, – ответила Прасковья Юрьевна. – У них в Саксонии какой‑то чудодей еще при короле Августе состав такой нашел. Во всем мире, говорит, такого нет. Только в Китае одном. Да те свой секрет крепко держат, – продолжала Прасковья Юрьевна. – Вот этот Лефорт и привез мужу диковинку. А муж и говорит: такая штука одна в России. Надлежит быть ей у императрицы. Вот я и привезла.
– Спасибо, спасибо, – говорила Анна, любуясь часами. – Поблагодари Семена Андреевича. Потом и мы отблагодарим его.
Анна несколько раз нажимала пружинку.
– Чудно, – говорила она, – этакую махинацию выдумать.
– Вот, сестрица, сзади золотая доска, – показала Екатерина, – а за ней вся махинация, – при этих словах она незаметно надавила ногой на ногу императрицы. – Да, за ней вся махинация, – повторила она, снова нажав ногу Анны.
Анна бросила на нее быстрый взгляд и сейчас же опустила глаза.
– Прикажи, Василий Лукич, поставить ко мне в опочивальню, – сказала она.
Василий Лукич поклонился, но, не желая оставлять императрицу с сестрами, сделал знак Ариальду.
Императрица стала задумчива.
Отойдя в сторону, Юлиана что‑то шептала Ад ели. Цесаревна Елизавета едва скрывала свою зевоту. После сытного обеда и выпитого вина ее клонило ко сну. Царевна Прасковья, после оживления, вызванного презентом, снова погрузилась в свое полусонное состояние.
Императрица встала, давая этим понять, что пора расходиться.
Сестры распрощались.
Василий Лукич вздохнул свободнее. У него было очень много дел.
Вход в Москву был назначен, с согласия Анны, на 15 февраля, а 14–го был назначен во Всесвятском дворце официальный прием Верховного совета, генералитета, Синода и иностранных резидентов.
Императрица удалилась в свои апартаменты. Фрейлины побежали к себе.
Это был час, когда императрица чувствовала себя свободной, без докучного надзора Василия Лукича, когда она могла предаваться своим печальным мыслям и делиться ими с верной Анфисой, единственной подругой своего одиночества. За ужином она опять встретит острый, наблюдающий взгляд Василия Лукича, будет выслушивать от него доклады и решения Верховного совета, уже приведенные, в исполнение. Василий Лукич заставит ее подписать то, что решено уже без нее. А потом – полубессонная ночь с воспоминаниями о Бироне, с тоской о маленьком Карлуше.
Придя к себе, Анна увидела уже на столе презент, который привезла Салтыкова. Сердце ее сжалось. Куда влекли ее друзья? Им легко говорить, советовать, интриговать. Но ведь в ответе будет она одна.
В ответе? Давно ли самодержцы российские боятся ответа! Всю жизнь бояться ответа! Под грозной рукой дяди, под легкомысленным правлением племянника, а теперь под железным игом Верховного совета.
Анна выслала из комнаты Анфису, чтобы поскорее остаться одной. Когда Анфиса вышла, она подошла к часам, взяла их в руки и стала внимательно рассматривать.
«За этой доской вся махинация», – припомнила она слова сестры. Она потянула золотую заднюю доску в одну, в другую сторону. Доска подалась и легко выдвинулась. Анна едва сдержала крик, когда из‑под доски выпал на пол серый конверт. Она торопливо наклонилась и подняла его. Руки ее дрожали. Страх овладел ею. Она поняла, что ее вовлекают в какой‑то заговор, и минутная решимость, вспыхнувшая в ней сегодня при намеке Екатерины, растаяла сейчас при мысли об угрожающей ей опасности. Разве она не была в руках верховников? Разве она не обещалась своим царским словом соблюдать подписанные ею кондиции под угрозой лишиться короны российской?
С трепетом распечатала она письмо и прежде всего быстро взглянула на подпись: «Остерман».
Это имя мгновенно успокоило ее. О, Андрей Иванович осторожен! Даже слишком осторожен. Он не посоветует легкомысленно. Он всегда знает, куда идти и каким путем идти.
И письмо Остермана действительно указывало ей пути, и по мере того, как она читала его, ее страх вновь сменился решимостью, и надежды вновь возрождались в ее сердце.
На этот раз Остерман писал ясно и определенно. Он начал с того, что, хотя чужеземец, он глубоко и искренно любит Россию, которой отдал всю свою жизнь. Он был почтен дружбой великого императора, вознесшего Россию на небывалую высоту. Русский народ – великий и могучий; Петр I пробудил его силы, несмотря на противодействие окружающих. И если он сделал то, что сделал, то только потому, что был самодержавен! Если бы его власть была кем‑нибудь ограничена, то весь народ восстал бы против его новшеств, противных невежественным традициям большинства. Исходя отсюда, Остерман писал, что как человек, посвятивший свою жизнь России, он видит залог ее счастливого процветания на всех путях в непоколебимости самодержавия. Он умолял императрицу быть твердой и решительной, потому что народ на ее стороне. «Кучка олигархов не должна внушать вам страха, – писал он. – Пусть они знатны и имеют сторонников, но есть столь же знатные персоны – их враги и сторонники императрицы». Дальше Остерман ярко изобразил положение. Знатные лица недовольны тем, что обойдены верховниками, – Черкасский, Трубецкой, Салтыков. Шляхетство хлопочет о льготах, но оно предпочитает получить эти льготы не из рук верховников, которым не верит и которых боится, а из рук императрицы. Духовенство во главе с Феофаном, ненавидимое князем Дмитрием Голицыным, всецело на стороне императрицы. В гвардии сильное недовольство. Еще со времен Петра I все озлоблены против Алексея Долгорукого, ныне члена Верховного совета, гвардия ропщет, видя, в каком порабощении находится императрица. Остерман советовал проявить свою державную волю. Чтобы привлечь на свою сторону гвардию, он советовал императрице объявить себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов. Он писал, что примет меры к тому, чтобы эти дни караул у дворца состоял из преданных людей. Это провозглашение будет первым ударом врагам самодержавия. Что будет дальше – по прибытии в Москву, – покажут обстоятельства. Остерман просил довериться ему и преданным людям. В заключение хитрый и предусмотрительный вице – канцлер просил уничтожить это письмо. Но Анна и сама боялась сохранять его.
Впервые перед ней ясно обнаружилось положение вещей. Она увидела, что может бороться. Бороться. Да. Но если поражение? Если верховники рассеют ее сторонников прежде, чем они сплотятся? Пример Ягужинского ясно показал, что они не остановятся ни перед чем.
Объявить себя полковником Преображенского полка, капитаном кавалергардов, вопреки кондициям. Ведь она никого не может жаловать чином выше простого полковника. А почетное звание поручика Преображенского полка равнялось генерал – майору. Фаворит покойного императора, обер – камергер, генерал – аншеф Иван Долгорукий, был лишь майором Преображенского полка.
«Никого не жаловать, – думала императрица. – А себя? Того нет в кондициях. И Петр I, и его вдова, и его внук – все были полковниками Преображенского полка. Это звание неразлучно с короной. Я так и скажу Василию Лукичу. Вот это действительно будет презент!»