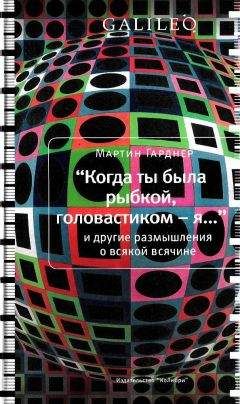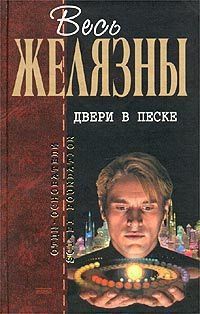шкафа на окно, обрамляющее пустой трейлер. Затем поднялась, забилась в пространство между ними – угол, где сходились две стены, – так чтобы не видеть ни трейлера, ни рисунков, повернулась спиной к стене и вжималась в угол, пока тело не приняло форму прямого угла; после этого опустилась на пол, скрестила ноги и застыла, подняв руки с обращенным вверх раскрытыми ладонями, хотя эта поза никогда в жизни ей не удавалась.
Потрясла головой, волосы замелькали перед глазами. Снова попыталась замереть, почувствовать ось, проходящую сквозь тело, – как линию, идущую по стене позади нее. Потом, кажется, уловила ее и посмотрела вниз, ощущая приятную, легкую пустоту в руках – невесомость ничем не наполненных ладоней.
* * *
Он появился на пороге, а потом уселся перед ней. Попытался скрестить ноги, как Анджелина, но успеха не достиг и в конце концов развел их по сторонам от нее, так близко, что их бедра соприкоснулись. Затем обратил ладони к небу.
Анджелина не знала, сколько они просидели вот так, неподвижно. Джон Милтон не шелохнулся. Она произнесла:
– Знаешь, что мне больше всего в тебе нравится?
– Всё?
– В тебе нет никакого деления на внутреннее и внешнее. У тебя отсутствует фильтр. Ты такой, какой есть.
– Какой есть? – переспросил Джон Милтон.
– Ты выглядишь приземленным.
– А вот и нет. Я всегда витал в облаках. И именно там хочу оставаться.
Теперь Анджелина заглянула ему в глаза, что‑то высматривая.
– Ты кажешься не таким, как прежде, – заметила она.
– Все меняется, – ответил он, косясь в окно. – Так уж устроен мир. Но, может, это ты стала другой.
Анджелина развела руки в стороны.
– Это Люси сделала тебя тем, какой ты есть.
– И я ее любил. Но нам не надо было жить вдвоем. Мне давным-давно следовало уехать. – Джон Милтон чуть подался назад и оперся на руки. – Мне хорошо, когда я знаю, что рядом никого нет. Мне нравится думать, что это место принадлежит мне, что я живу тут один и ни с кем не связан.
– Но я здесь, – возразила Анджелина.
– Временно.
Она сидела, забившись в угол, он отклонялся назад, в противоположном от нее направлении, – и все же они устремлялись друг к другу.
Джон Милтон поднял руку, на секунду задержал ее в воздухе, потом выпрямился и коснулся правой руки Анджелины.
– Восток, – произнес он. Потом коснулся ее левой руки. – Запад. – Дотронулся до ее макушки. – Север. – Наконец, он прикоснулся к ней там, где она больше всего желала: – Юг. – И позволил своим пальцам задержаться и скользнуть глубже. Анджелина закрыла глаза.
– Патти с моей работы, – продолжал мужчина, – родом из Калифорнии, и ее мать была наполовину индианка винту. Эта присказка про восток и запад в ходу у коренных американцев. Они не называют части тела «левыми» и «правыми». Используют только названия четырех сторон света. По словам Патти, «я» нельзя потерять. – Он рыгнул. – Когда Патти хочет заняться со мной сексом, она вечно заводит свою шарманку про восток и запад. – Анджелина стукнулась головой о стену. – Конечно, я хочу заняться с тобой сексом, – добавил Джон Милтон. – Дело хорошее. Но я решил, что тебе понравится эта история.
Она ответила:
– Я никогда не заблужусь.
– Если верить Патти.
Анджелина приняла прежнюю позу – выпрямила спину, подняла ладони и застыла.
– Я знаком с твоим мужем, – заметил Джон Милтон. – Почему ты здесь?
– Мне нужно что‑то другое.
– Ты не любишь мужа?
– В этом‑то и проблема. Люблю.
– Значит, ты его любишь, но?..
– Жизнь слишком коротка, а у меня она оказалась слишком долгой.
Джон Милтон стал на колени и неожиданно мягким ртом провел по ее потрескавшимся губам. Потом отстранился. В других местах он ее уже не трогал. Затем опять наклонился и на сей раз языком очертил круг вокруг ее рта. И вновь качнулся назад. Положил ставшие чужими руки себе на бедра.
– Я не нарушала правил с четырнадцати лет, – сказала Анджелина, ощущая на губах клубничный привкус.
– Как ты узнáешь, что там, снаружи, если останешься внутри?
– Но я не знаю, как выбраться наружу, – возразила она.
Тогда он подался вперед и, вытащив ее из безопасного угла, заключил в свои небезопасные объятия. Потом стал целовать в шею – от уха до уха. А когда посмотрел ей в глаза, она притянула его голову к себе.
* * *
После они лежали на полу обнаженные и водили пальцами по горам и долинам тел друг друга.
– Мне чудится, будто эти акварели хотят нам что‑то сообщить, – произнесла Анджелина. – Как во сне.
– Я рад, что Люси показала их тебе.
Анджелина помотала головой.
– Она не показывала.
– Но на днях ты говорила, что хочешь взглянуть на них еще раз.
– Я видела их… после.
– У меня есть всё, что мне нужно, – проговорил Джон Милтон.
– Мне нужно место без правил. – Анджелина оттолкнулась ногой от стены. – Место, где я могу передвигаться, ничего не задевая. – Она повернулась и провела пальцем по его лицу. Джон Милтон закрыл глаза. – Знаю, я эгоистка.
Он снова открыл глаза.
– Такова натура «я».
Анджелина села.
– Мне необходимо выглянуть за пределы моего маленького мирка и увидеть большой мир.
Джон Милтон перевернул ее кисть и поместил свой палец между ее большим и указательным пальцами. Анджелина закрыла глаза. Его палец заскользил по ее коже, с нажимом и в то же время легко, а достигнув противоположного края ладони, сорвался. И она открыла глаза.
«Проклятье, проклятье, проклятье», – говорил себе Уилл, устремив взгляд на ряды ящичков на двух верхних полках. Он поочередно клал правую руку на ящик, брал его за верх и бока и переставлял на верстак. Его левая рука висела вдоль тела, словно ее отключили.
Хотя он изготовил семь ящичков и больше не хотел их делать, теперь их стало девять. Девять маленьких домиков.
Разумеется, когда Уилл в последний раз заходил в «Бест бай», Стеллы там не оказалось. Он положил ее резинку для волос в ящичек и высосал из нее жизнь.
Его левой руке хотелось схватить молоток и разнести каждый ящичек вдребезги.
Его правая сторона желала побыть с ящичками, познакомиться с ними поближе, притереться к ним.
Ящички…
Он плюхнулся в кресло с такой силой, что оно откатилось назад.
Вот кто он есть.
Уилл встал.
Вот каким образом он удерживал членов своей семьи: он был ящиком.
Обеспечивал семью деньгами; а теперь будет обеспечивать ее душой. Станет ее средоточием. В конце концов, он, очевидно, единственный, кто желает здесь жить. Значит, он и будет здесь жить.