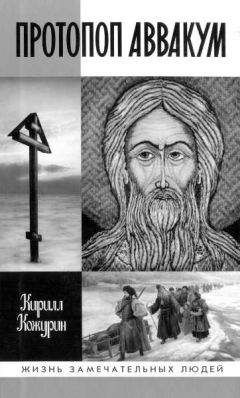Данка, конечно, желала быть умной.
– Вы очень хитры, – сказала она, слегка отклоняя свое лицо от лица Термосёсова.
– Хитер! Ну брат, выкрикнула слово! Нет, душатка, Андрей Термосёсов как рубаха: вымой его, выколоти, а он, восприяв баню паки бытия, опять к самому телу льнет. А что меня не все понимают и что я многим кажусь хитрым, так это в том не моя вина. Я, вот видишь, не только все сердце свое тебе открыл, а и руку твою на него наложил, а ты говоришь, что я хитрый.
– Вас, я думаю, никто не поймет, – ответила Данка, совершенно осваиваясь с своим положением в объятьях Термосёсова и даже мысленно рассуждая, как это действительно оригинально и странно идет все у них. Точно в главах романа: “оставим это и возвратимся к тому-то”, потом “оставим то-то и возвратимся к этому”, – от любви к поученью, от поученья к любви… и все это вместе, и все это поучая.
И Данке вдруг становится преобидно, что ее поучают. Она припоминает давно слышанные положения, что женщины не питают долгой страсти к своим поучателям и заменяют их теми, которые не навязывают им своего главенства, и она живо чувствует, что она ни за что не будет долго любить Термосёсова, но… тем более он любопытен ей… Тем более она желает видеть, как он все это разыграет при необычайности своих приемов.
А Термосёсов между тем спокойно отвечает ей на ее замечание, что его “никто не поймет”.
– Что ж, это очень может быть, что ты и права, – говорит он. – Свет глуп до отчаянности. Если они про Базарова семь лет спорили и еще не доспорились, так Термосёсов – это фрукт покрепче, – станут раскусывать, пожалуй, и челюсти поломают; и моей-то вины опять в этом нет никакой. Я тебе сказал: Термосёсов сердце огонь, а голова отчаянная.
– Ваша откровенность погубит вас, – уронила с участием Данка, согревшаяся животным теплом у груди Термосёсова.
– Погубит? – ничего она не погубит. Некого бояться-то!
– Ну, а он?
Данка кивнула по направлению к покою, где спал судья Борноволоков.
– Судья-то? – спросил Термосёсов.
– Ну да?
– Эка, нашла кого выкрикнуть! – воскликнул, встряхнув Данку за плечи, Термосёсов. – Ничего вы здесь не понимаете! Судья! Ну судья и судья, ну и что ж такое? Читала, в Петербурге Благосветлов редактор возлупй пребокэ своих рабочих, ну и судил судья и присудил внушение. Ольхин судья называется… Молодчина! А поп демидовский барыне одной с места встать велел, – к аресту был за это присужден, и опять, стало быть, мировой судья молодчина.
– Еще бы, – попы! Это первая гадость, – отозвалася Данка.
– Ну вот видишь, так и сотворено! Эх ты! Видишь: сама поняла!
– Да ведь у нас свой точно такой поп есть, с которым никак не справимся.
– Горлодёр?
– Как вы сказали?
– Я говорю: горлодёр, орун?
– Туберозов он называется.
– То-то: орун что ли он?
– Не орун, а надоел и никак не справимся.
– Н-ничего: до сих пор не справлялись, а теперь справимся.
– Никто не может справиться.
– Ничего, мы справимся.
– Он опирается на толпу. Он авторитет для них.
– Н-ничего, это все ничего. Как ты говоришь его фамилия-то, Туберкулов?
– Туберозов.
– Ну, я это попомню. Не высокий ли он, седой?
– Да.
– Ну я его видел, как мы через мост переезжали. Должно быть, скотина?
– Страшная.
– Это я с первого взгляда увидел. Ну ничего: уберем. В цене сторгуемся и уберем: я Ирод, ты Иродиада. Хочешь?
– Что такое?
– Полюби и стань моею.
Данка покраснела и сказала:
– Вздор какой!
– Вздор?.. Э-эх вы, жены, российские жены! Нет, далеко еще вам до полек, – вас даже жидовки опередили. Я тебе голову человека ненавистного обещаю, а ты еще раздумываешь?.. Нет, с такими женщинами ничего нельзя делать! – воскликнул он и внезапно освободил из рук Данку.
Выпущенная Бизюкина вдруг осиротела и, следя глазами за Термосёсовым, с явной целью остановить его, проговорила:
– Я ничего не раздумываю.
Термосёсов тотчас же молча вернулся, обнял Данку и, прежде чем она успела опомниться, накрыл ее рот и подбородок своею большою и влажною губою.
Данка цаловалась, но вдруг вспомнила, что все это происходит перед открытым окном, и, рванувшись, шепнула:
– Прошу вас!.. Прошу вас, пустите!
– А что? – спросил Термосёсов.
– Здесь видно все в окна.
– А-а, окна! Ну, мы подадимся, – и он, не отнимая ни своей, ни ее руки с мест, которые избрал им, переставил Данку за косяк и спросил:
– Ты мужа не боишься?
– Я?.. О нет! – воскликнула, качнув отрицательно головою, Данка.
– Молодчина! – поощрил Термосёсов и опять в другой раз накрыл Данку губою и на этот раз на гораздо большее время.
– А вы, – спросила, освободясь на мгновение, Данка. – Вы не боитесь?
– Кого мне бояться?.. С чего ты это берешь?
– Но мне… так как-то… показалось, что вы за ним ухаживаете?
– Да; так что ж такое, что ухаживаю? Да ты знаешь ли, зачем ухаживают-то? – затем, чтобы уходить. Я вот теперь за тобой ухаживаю, – добавил он со смехом, – и что ж ты думаешь, я тебя не ухожу что ли? Будь спокойна: ухожу тебя, разбойницу! Ухожу! – и с этим Термосёсов приподнял обеими руками кверху Данкино лицо и присосался к ее устам как пиявка.
Поцелую этому не предвиделось конца, а в комнату всякую минуту могла взойти прислуга; могли вырваться из заперти и вбежать дети; наконец, мог не в пору вернуться сам муж, которого Данка хотя и не боялась, но которого все-таки не желала иметь свидетелем того, что с ней совершал здесь быстропобедный Термосёсов, и вдруг чуткое ухо ее услыхало, как кто-то быстро взбежал на крыльцо… Еще один миг, и человек этот будет в зале.
Данка толкнула от себя Термосёсова, но он не подавался; а выговорить она ничего не может, потому что губы ее запаяны покрывающей их толстой губой Термосёсова. Данка в отчаянии крепко щекотнула Термосёсова в бок своими тонкими пальцами. Гигант отскочил и, увидев входящего мальчика, понял в чем дело.
– Это его-то? Тпфу, есть кого пугаться, – сказал он с небольшим, впрочем, неудовольствием. – “Брудершафт, мол, выпили, да и поцаловались”. – Ну так, так: на попа сыграли? – заключил он, протягивая с улыбкою руку Бизюкиной.
– На попа.
– И все у нас условлено и кончено?
– Кончено, – отвечала, слегка смущаясь и подавая руку, Данка.
– На Туберкулова?
– На Туберозова.
– Ну, смотри же!
Термосёсов крепко пожал и встряхнул Данкину руку.
– Держать свое слово верно!
– Верно, – ответила Данка.
– Смотри!.. Каково поощрение, такова будет и служба. Это так и разделено: мужчина действует, а женщина его поощряет. А ты, – добавил он, осклабляясь, погрозив пальцем Данке, – ты, должно быть, бо-ольшая шалунья! Посмотрим же.
С этим Термосёсов выпустил руку хозяйки и решительно пошел к кабинету, где спал или не спал судья Борноволоков.
Борноволоков не спал еще, когда к нему возвратился счастливый Термосёсов.
Судья, одетый в белый коломянковый пиджак, лежал на приготовленной ему постели и, закрыв ноги легким весенним пледом, дремал или мечтал с опущенными веками.
Термосёсов как только взошел, пожелал удостовериться: спит судья или притворяется спящим? Термосёсов тихо подошел к кровати судьи, тихо нагнулся к его лицу и назвал его негромко по имени. – Судья откликнулся.
– Вы спите? – спросил Термосёсов.
– Да, – отвечал одною и тою же неизменною нотою Борноволоков.
– Ну где ж там да? Откликаетесь и говорите, что спите. Стало быть, не спите?
– Да.
– То есть я вас разбудил, может быть?
– Да.
– Ну, вы извините.
Борноволоков только вздохнул. Термосёсов отошел к другому дивану, сбросил на него с себя свой сак и начал тоже умащиваться на покой.
– А я этим временем, пока вы здесь дремали, много кое-что обработал, – начал он укладываясь.
Судья опять уронил только да, с оттенком вопроса.
– Да так да, что я даже, могу сказать, – и кончил: veni, vidi, vici.[20]
Не открывая глаз и не рушась на своем месте, Борноволоков опять уронил то же самое да.
– Да. Осязал, огладил и дал лобызание.
– И что ж? – сказал, самую малость оживясь, Борноволоков.
– Городская золотуха и мозоли, – отвечал категорически Термосёсов.
– Это с одной стороны, – проговорил судья.
– Да; а с какой же с другой? “Золотуха и мозоли”, ведь этим все сказано. – Дура большая.
– Да?
– Комплектная дура, хоть на выставку, – проговорил Термосёсов и добавил, – но цалуется жестоко!
С этим Термосёсов скинул ногой сапоги и начал умащиваться на диване, ветхие пружины которого гнулись и бренчали под его блудным телом.
Судья по поводу термосёсовского замечания о свойстве данкиных поцелуев протянул то же самое бесстрастное да и, очевидно, намеревался уснуть.
Но Термосёсов разболтался.
– Я ее и поучил тоже, – сказал он судье.
– Да?
– Вместе и поучил и поухаживал.