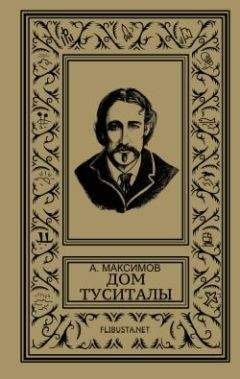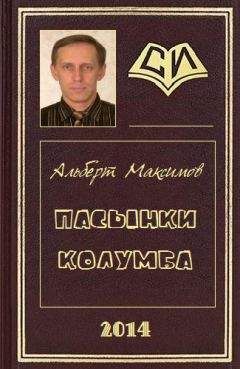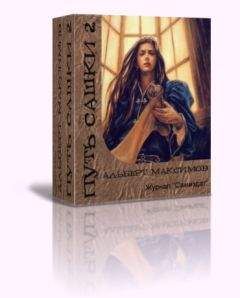к вам не лезем, и вы мимо нас шагайте. То, что ты нас не сдал, – за это низкий тебе поклон, но, если человек деньги украл, тут уж надо…
Отец Тимофей не дал ему договорить:
– Мстить решили? За Богу работу делать? Не человеческое это дело – мстить! – закричал старик, но тотчас успокоился. – Если б деньги у нее были, она отдала б вам. Ну, нет у нее ничего – что с нее взять? Она и так намучилась не меньше вашего! – Отец Тимофей замолчал и сидел, глядя на дно чашки своей, будто пытаясь разглядеть там что-то особенное, важное. – Господь любовь всем дает, а вы ее брать не хотите. Как же так, а? Господь людям любовь несет, а они отворачиваются… Не надо, говорят, проживем и так… Как же можно, а? Бог говорит: возьмите любовь мою, а люди не берут… – На глазах отца Тимофея появились слезы: соленые капли отчаяния маленького человека перед несправедливостью Вселенной. – Сказано же вам, сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Услышав эти евангелические слова, Санька аж вскочил:
– Ну-ка, скажи еще раз, что сказал.
Отец Тимофей повторил.
– Что это такое? – спросил Санька.
– Евангелие от Иоанна, – немного растерянно ответил отец Тимофей, не умея понять, чем так поразили этого огромного человека именно эти слова.
– Библия типа? – удивился Санька. – Так это ж наш закон. Вроде как за друга не жалко и жизнь отдать. Только сформулировано уж больно ловко.
Помолчали.
Серая некрасивая тьма опускалась на Забавино. Вдалеке зазвучали пьяные голоса и стихли. Залаяла собака и тут же заскулила – видимо, кто-то ударил ее, чтобы своим лаем не портила тишину жизни. Женщины с сумками, набитыми невкусной, но привычной едой торопились домой. Подростки шумной стайкой шли на старые развалины – попивать пиво и искать приключений.
Наступал вечер.
– Жить, знаете, как надо? – спросил отец Тимофей.
– «Чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы»! – расхохотался Николай.
– Жить надо так, чтобы не страшно было умирать, – тихо произнес отец Тимофей. – Вы вот всякий миг под смертью ходите, от того и куражитесь, чтоб про смерть не думать. От того и страшно вам. Жить же вообще не страшно. Но вот ежели смерти боишься, тогда другое дело.
Он замолчал.
И два мужика молчали. В том, что говорил отец Тимофей, люди чувствовали правду. Они никогда бы не признались в этом своем ощущении даже самим себе. Но ощущение бередило их души, и никуда было от этого не спрятаться.
Два человека молчали потому, что не привыкли говорить о том, о чем рассказывал этот старик с крестом на груди. Но всей своей дремлющей душой люди понимали: это очень важные слова, которые до этого никогда и никто не вносил им в уши. Эти слова нельзя было не услышать, и не думать о них уже было невозможно. Эти были какие-то другие слова – новые, неведомые, прорастающие.
Два человека молчали, придавленные грузом чужих слов. Они не ведали никогда такого груза. И не знали, что с ним делать.
– Смертный час к каждому придет, к каждому. – Отец Тимофей говорил тихо, словно ни к кому не обращаясь, словно просто произнося вслух свои мысли. – Тогда либо смиренное облегчение человек ощутит, либо страх бездонный… Страх бездонный… Представляете ли, что это такое? Страх, у которого дна нет… Страх, в котором тонет человек, чтобы не выбраться никогда. Никогда!
Они сидели еще час, слушая отца Тимофея. Почти не спрашивая ничего, просто слушая.
А потом ушли, уверенные, что не возвратятся в Забавино больше никогда.
И все же Санька вернулся. Через время. Когда отец Тимофей уже не был настоятелем Храма. Ариадна испугалась, когда увидела гиганта на пороге дома. Но оказалось, что Санька приехал проситься жить при Храме, потому что устал бояться бездонного страха смерти, а как по-другому от него избавиться, не ведал.
Николай же завертелся в тряской суете жизни. И погиб непонятно почему, как и жил неясно зачем.
Отец Тимофей в ту ночь долго стоял перед иконой, молился, а потом просто разговаривал с Богом – отмаливал свой грех: поднял руку на человека.
Отец Тимофей помнил каждого человека, которого унизил этим своим приемом. Лица этих людей были вбиты ему в душу, глаза их царапали сердце… И священник знал: это навсегда уже. Это никуда не уйдет.
Долго молился в своей комнате и отец Константин. Молил Бога, чтобы понял его, чтобы дал забвения сегодняшнего дня; чтобы забылось все – как не было.
И понимал, что Господь не услышит его. Знал, что двигали им греховные помыслы. Но как победить бесов, поселившихся в его душе, кроме как избавлением от Ариадны, не ведал.
Страдал от этого. Плакал.
Но все равно поглядывал на дверь– не войдет ли Ариадна, от которой он так хотел избавиться сегодня…
Глава седьмая
Дожди и солнце
На следующий день пошел дождь. Дождь струился – мелок и бесконечен. Лениво сползал с неба на землю и погружался в им же самим приготовленные лужи.
Дождь был настолько мелок и беспомощен, что забавинцы предпочитали его не замечать и ходили под мелкой водичкой так, словно и не было никакого дождя, ленясь даже раскрывать зонтики или натягивать на голову капюшоны курток.
Не ласкающе романтичный, а длящийся бесконечно, создающий мелкие неудобства дождь казался и привычным, и понятным. Он воспринимался, словно старый, слегка подвыпивший приятель, который, конечно, немного раздражает, но сам его приход ощущается как признак стабильно текущей, утекающей жизни.
Отец Тимофей постоял немного под дождем, послушал таинственные небесные звуки, умылся свежей, природной водой и направился на кухню пить чай.
Тут как раз отец Константин вернулся из школы. Он пригладил успевшие слегка намокнуть волосы, налил себе чаю и без предисловия спросил:
– Зачем вы их отпустили? Это же бандиты. Они еще неизвестно чего понатворить могут.
Тимофей поднял голову и посмотрел прямо в глаза Константину. До чего же не любил священник этот острый, пронизывающий взгляд настоятеля! Ему казалось, будто он весь расплавляется под этим взглядом, перестает существовать, исчезает…
– У нас в лагере сидел человек, – произнес Тимофей так тихо, что Константину пришлось напрячься, чтобы его услышать. – За убийство. Жизнь у человека отнял, что может быть страшнее? Жена ему изменила, он ее застал, видишь ли, не совладал с собой… – Тимофей вздохнул, словно вспомнив что-то неприятное, и тут же продолжил: – Он был врач. Степан его звали. Степан Милютин. Так