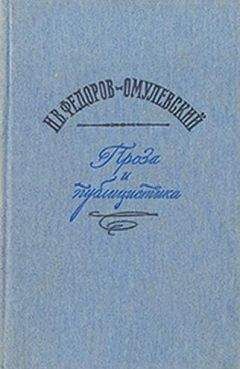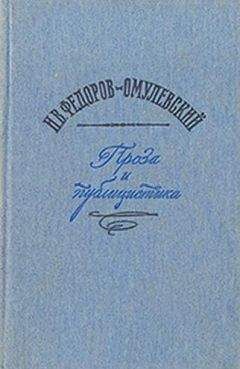— Сам повезу!
— Дурак ты, дурак!!
Беседа продолжается все в этом же роде, по недолго. Вышедшая наконец из терпения смотрительша насильно уводит своего благоверного «дурака» спать. Через пять минут он уже храпит, да таково сердито, что любимец Марьи Федоровны, большой полосатый кот, забравшийся было к нему под кровать, при первой же ноте кубарем вылетает оттуда с испугу, вскакивает, окончательно растерявшись, на туалетный стол смотрительши, ежится и жалобно мяучит, как будто выговаривает:
«Стра-ашно! Стра-ашно! Ай, как стра-ашно!»
Марья Федоровна, не обращая внимания на своего любимца, который не бледен смертельно в эту минуту только потому, что у него вся морда в шерсти, сердито отправляется дообедовать. «Смотрительска Машка», возвратившаяся уже на кухню и к которой, в свою очередь, каким-то чудом вернулась «моченька», стоит у печки, аппетитно облизываясь на «барыню». Ее, впрочем, все еще нет-нет да и передернет, — но крайней мере, не фыркает. Слышно, как кто-то на улице пьяным голосом забористо дотягивает:
«Во зе-ле-ны-их лу-га-а-а-а-ах…»
Вечер. На почтовом дворе идет страшная суматоха: «пошта на шести парах прибежала». Суматохи этой в трезвом состоянии изобразить невозможно: надо именно самому напиться, чтоб передать сколько-нибудь сносно всю эту бессмысленную кутерьму. Это не суета множества людей, занятых впопыхах одним общим спешным делом; даже не извинительно бестолковая суета пожара, — нет. Это просто какое-то отчаянное состязание пьяных голосов, старающихся из всей мочи перереветь или переругать один другого. Неподражаемая русская брань, самая закатистая и с такими невообразимыми вариациями, что, кажется, услышав ее в первый раз, поняли бы и самые бесстыдные уши, сыплется здесь свободно, с треском, как крупный горох из неосторожно разпоротого мешка. Иной помолчит да как закатит свое заветное крепкое словцо, так только невольно подумается, что ты выработку одного этого истинно-ядовитого словца пошла вся его безрассветно-темная, горькая жизнь.
И над всем этим носится, заглушая остальные голоса, распьянейший голос почтальона, сопровождающего «пошту», который, под бременем множества возложенных на него губернскою конторою чужих «радостей и горестей», находится сам, сердечный, в таком печальном положении, что его двое ямщиков выводят под руки из почтовой повозки.
Смотрительша, второпях накинувшись чем попало, выходит на крыльцо и расспрашивает первого попавшегося ей на глаза ямщика, как фамилия приехавшего с почтой почтальона. Но ямщик оказывается столько же сведущ в этом, сколько и она. «Смотрительска Машка», стремглав прибежавшая откуда-то, весьма кстати выручает ее.
— Быков, Быков, барыня! — докладывает она впопыхах и тотчас же опять куда-то скрывается.
Смотрительша успокаивается.
— Марье Федоровне… мое наиглубочайшее! — слышит она вдруг позади себя оглушающий бас.
Оказывается, что перед ней, пошатываясь в обе стороны, стоит огромного роста почтальон, явившийся сюда так неожиданно с заднего крыльца. Вся особенность физиономии этого великана губернской конторы единственно заключается в том, что у него такие большие ноздри, как будто он только и делал на своем веку, что беспрестанно ковырял у себя в носу.
— А! Матфей Иваныч! Дорогой гость!
И приветствиям нет конца; и они, так же как и брань, сыплются здесь чем-то вроде дешевого гороха, горстями пускаемого деревенскими мальчишками друг другу в лицо. Смотрительши узнать нельзя при этом свидании. В эту минуту она уже не «начальство», не чиновница, не ваше благородие, не коллежская регистраторша даже, а просто-напросто все та же прежняя почтальонша, мывшая когда-то без отговорок полы в комнатах какой-то почтмейстерши. Торопливо уводит Марья Федоровна своего «дорогого гостя» прежде всего на кухню; торопливо приносит ему целый графин водки, не раздумывая даже, влезет ли теперь в «дорогого гостя» хоть одна рюмка; торопливо вынимает она из печки собственными своими «начальническими» руками остатки простывшего обеда; торопливо выспрашивает все губернские новости и наконец, угомонившись несколько, отправляется будить своего «бесстыжего дурака».
Его благородие опочивают удивительно-сладким сном на своем супружеском ложе. Спят они, впрочем, собственно, не на ложе, а в довольно широком отверстии между ложем и стеною. Как ухитряется «начальство» спать в этом ущелье, не провалившись под кровать, — уму непостижимо. Только на лоне праотца его Авраама и можно спать так сладко и праведно. Снится ли ему теперь прибежавшая на шести парах «пошта»? Снится ли ему хотя новый полный графин водки на кухне, который он снова может в эту минуту выпить, весь дочиста, со своим старым приятелем почтальоном Быковым, не опасаясь больше упреков со стороны своей «отъевшейся на смотрительских хлебах Машечки»? Нет; ничего подобного ему, вероятно, не снится, — иначе он давно бы уж вскочил, натянул бы снова свой заветный вицмундир и не стал бы, на всевозможные старания Марьи Федоровны разбудить его, отвечать на каком-то новом, только одному ему понятном, языке:
— Тырррр… тырр… тырр… таххх…
«То-о-то!» — воскликнул бы он по обыкновению и тотчас же бы воспрянул.
А смотрительша все стоит над ним терпеливо, все-не теряет надежды привести своего «глухаря» к впечатлениям видимого мира. Уж чего-то она не делает для этого! И толкает-то его, и щиплет, и трясет-то его; даже в лицо ему плюнула — нет! Не просыпается, да и только, его благородие. Наконец она прибегает к последнему средству: затыкает ему пальцами обе ноздри, а ладонью другой руки — рот; но получает такой энергический отпор, что не решается даже повторить своего маневра.
— Тьфу ты, пропастина этакая! — говорит она, плюнув еще раз в лицо, и сердито удаляется.
А с улицы нет-нет да как раздастся под самым окном:
— Я-я-язви твою душу, черт!
Поздний вечер: у «некорыстной попадейки», хотя, по-видимому, и все спокойно, а тоже на душе суматоха не последняя; к ней хоть и не «прибежала на шести парах пошта», но зато сам батюшка внезапно подъехал на тройке. Попадья угощает его теперь чаем с дороги; а красивый из себя пономарь Василий Иваныч, который «совсем нечаянно встретился с батюшкой у ворот», сидит поодаль от них на сундуке и как-то конфузливо перебирает струны старой гитары, не издавая, впрочем, никаких звуков. Отец Прокофий даже еще и рясы снять не успел.
— Смотритель-от наш…
— Слышал, слышал!.. — сказывал Василий.
— И получили-то как нежданно-негаданно…
— Что ж! Дай бог! Очень я рад за него: пора уж ему…
— А я так совсем, этому не радуюсь…
Батюшка разводит рукавами.
— Крайняя односторонность с твоей стороны.
— Она теперь еще пуще нос-от задерет…
— Не замечал я этого, чтоб Марья Федоровна важничала: очень почтенная дама.
— У вас все, Прокопей Василич: «почтенная дама»!
— Коли не замечал.
— Старостиха-то тоже, поди, не глухая — слышим, что она про нас-то говорит…
— Что ж! Со стороны Анисьи это нехорошо — сор из избы выносить.
— Тоже и говорить-то лишнего не надо…
— Какие же у них сегодня гости были? К пирогу-то я и не поспел.
— Да каки гости-то? Только Анисья Петровна и была с подрядчиком, — я не ходила.
Батюшка опять разводит рукавами.
— Крайняя односторонность!
— Да мне чего ходить-то к ней на поклон? Пирога, что ли, я ее не видала? У меня завтра и свой будет…
— Надо было сходить поздравить… Я бы вот и теперь пошел, да поздно — поди, спят все.
— Поссорились да еще ходить…
— Что ж, что поссорились… Мы вон, пожалуй, с благочинным десять раз ссорились, а я и по сию пору к нему хожу.
— То отец благочинный…
— Все единственно. Вот ужо, как на исповедь-то к отцу Степану пойдешь, — он тебя не причастит. По-моему, поссорился да тут же и помирился.
— А я этого не могу…
Батюшка еще раз разводит рукавами.
— Ну, я и говорю: крайняя односторонность!
Молчание.
— Василий Иваныч, вам чайку-то налить?
— Ты что ж, Василий, в самом деле чаю-то не пьешь? Пей, парень, это ведь не водка.
Но пономарь только «благодарит покорно» — не хочет: дома напился. Он без отца Прокофия так часто пил чай у попадьи, что теперь, при батюшке, ему даже уж как-то и совестно пить.
— А у нас это блох сколько без вас, Прокопей Василич, расплодилось; просто житья от них нету…
— Надо ужо как-нибудь из городу порошка привезти. Порошок, говорят, такой есть.
— Третьего дня так совсем меня заели. Уж я и перину-то трясла на снегу — ничего-то их, гадин, не берет, мои матушки!
— Что ж! Надо и этому зверю чем-нибудь питаться.
Молчание. Пономарь кашляет в руку.
— Треб-от много справили, отец Прокопей?
— Довольно.
Молчание.