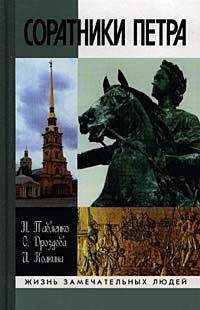— От селянки я не прочь, кушанье хорошее…
— Люблю я ее, особливо, когда это с пылу-то она, да шипит это, шипит, хе-хе, а груздочки в ней так и прискакивают, словно заманивают тебя, хе-хе… как ты теперь меня, к слову сказать. Откровенный ты человек, Петр Никитич, люблю я таких-то, что начисто узоры выводят, право! Теперь и я тебе скажу свое душевное слово: не сердись ты на меня, что я тебя по колоченным-то ребрам щупал, это я тебя нарочно пытал, что можно ли еще с тобой темные-то дела вести, не возьмет ли опаска…
— Ну, можно ли? — с иронией спросил Петр Никитич.
— Дока, брат, ты до-о-ка! Вот уж про тебя можно сказать твое же слово: что со всякого крючка сорвешь червячка! Откровение это тебе бог дал!
— Не пожалуюсь, умом не обижен! — самодовольно ответил Петр Никитич.
— О-о-ох… великое дело, коли ум в человеке есть, — качая головой, глубокомысленно продолжал Харитон Игнатьевич. — С умом человеку и родительского наследья не надоть. Спросите меня, с чем я жить пошел на белом свете, а-а? С двумя гривнами. А слава тебе господи, и домик сорудовал, и в домике теперь пустого места не найдешь. До тридцати лет у всех на языке был Харитошкой, а теперь всякий ко мне с почетом да уважением относится, всякий чтит меня Харитоном Игнатьевичем. А все ум, ум! Не будь у тебя ума, разве ты бы додумался до этакой фортуны, а? А векселя, друг, я все-таки не дам тебе! — лукаво, но пристально посмотрев на него, заключил он.
— Не дашь, так к другому пойду!
— Хе-е, хе-хе-е-е! Знаю, знаю, милый ты человек, что на этакую рыбу, как Святое озеро, самоловов много найдется; да не бойся! Это я так, шучу. Страсть моя, друг, шутки шутить. Другой, кто не знает меня, подумает, что я невесть какой плут, а я, по душе тебе скажу, — простой человек, что твой младенец, ей-богу. А поломаться люблю… люблю…
— Со мной бы нечего шутки шутить, Харитон Игнатьевич, насквозь друг друга видим!
— А все ж как-то вот легче стало, любовней ровно, как супротивным-то словом перекинулись. По крайности увидели, что друг друга стоим, хе-хе-е!.. Дарья, неси-ка селяночку-то, коли готово! — благодушным тоном крикнул Харитон Игнатьевич, подойдя к двери. — Вот, друг ты мой, — снова начал он, когда в комнату вошла жена его, неся в руках тарелки и чистую скатерть на стол, — разведи меня с бабой, озолочу! Ну что, как в купечество выйдешь, как ты в люди-то с этаким перестарком покажешься, а?
— О-ох, уж молчал бы, купец! Кто тебя еще в купцы-то пустит, спросил бы наперво! — ответила жена, обведя его насмешливым взглядом и, быстро отодвинув стол от стены, накрыла его скатертью.
— Хе-хе-хе-е!.. Заживо тронуло! Ну, ну, не сердись, Дарья Артамоновна, я ведь шучу! На нас и в мещанстве господь оглядывается! — произнес Харитон Игнатьевич, хлопнув ее ладонью по широкой спине. — Двоих укомплектует, а-а? Вот нам какую под старость господь супругу послал, хе-хе-е! — обратился он к Петру Никитичу.
— Тьфу ты! — сплюнув, произнесла Дарья Артамоновна и поспешно вышла из комнаты, сопровождаемая веселым смехом друзей.
-
На следующий день, часу в десятом утра, Харитон Игнатьевич подвез Петра Никитича к одноэтажному деревянному дому, стоявшему внутри обширного двора, обнесенного с улицы резною деревянною решеткой. Дом стоял в центре города, на одной из лучших улиц, и принадлежал уездному исправнику Ивану Степановичу Кашкадамову. Пройдя чисто выметенный и усыпанный песком двор, Петр Никитич вошел в людскую, помещавшуюся во флигеле, позади дома. У конюшен суетились кучера, чистившие лошадей: два конюха обмывали щегольскую полуколяску, недалеко от них, на завалине сидело четверо крестьян, пришедших еще на рассвете и терпеливо ожидавших, когда их примут и выслушают. Просители были старики. Осеннее солнце обливало ярким светом загорелые морщинистые лица и их серые, из домашнего сукна зипуны. Что-то грустное проглядывало в этой молчаливо сидевшей группе, пришедшей, может быть, за сотню верст, оторвавшись от неотложных работ по хозяйству. По двору суетливо перебегали из флигеля в дом горничные, то с чайной посудой на подносе, то с самоваром и кофейником, утюгом или выглаженной юбкой. Каждый раз, как только отворялась дверь во флигеле или доме, просители, точно по сигналу, поднимались с завалины и обнажали свои лысые головы, обрамленные прядями седых волос; но видя, что на них никто не обращает внимания, медленно садились один за другим, перекидываясь изредка каким-нибудь словом.
Иван Степанович Кашкадамов, сидя в это время в кабинете у письменного стола, отдавал приказания повару и эконому о необходимых приготовлениях к предстоящей охоте, к участию в которой приглашены были влиятельные лица местной администрации. Красивое лицо его было крайне озабочено. Он постоянно хмурил брови, тер лоб, стараясь припомнить, не упустил ли чего-нибудь из виду; несколько раз повторял одни и те же слова, перечислял одни и те же сорта вин, закусок и паштетов. Поглощенный этой заботой, он несколько дней не посещал даже управления, не подписывал накопившихся бумаг, журналов и постановлений. Многие из этих бумаг заключали в себе судьбу какого-нибудь крестьянского семейства, решение давнишнего спора о чресполосном куске земли, освобождение из-под ареста какого-нибудь бедняка, но Ивану Степановичу было не до того… Он принадлежал к тому многочисленному типу людей, которые, доживши иногда до глубокой старости, не выходят из младенческого возраста, и был известен в губернии более под именем "Ванечки", и уменьшительное имя это, несмотря на солидный возраст и служебное положение, как нельзя более шло к нему. Бывши некогда адъютантом при какой-то особе, Иван Степанович считался в высшем кругу города О-а "горячей и опасной головой" и, вследствие свободомыслия, вынужден был променять военную карьеру на более скромную гражданскую деятельность. Рассказывали, что, принимая предложенную ему должность исправника, он открыто заявлял, "что каждый развитой и просвещенный человек обязан посвящать свои силы на служение интересам народа!" Как посвящал Иван Степанович свои силы на подобное служение до женитьбы своей на дочери винокуренного заводчика и золотопромышленника Пегова, о том биографы его умалчивали, иронически улыбаясь, но после женитьбы ни для кого не составляло секрета, что тесть его, в компании с ним, оцепил половину губернии кабаками и винными складами. Сделавшись одним из крупных капиталистов и душою высшего губернского общества, Иван Степанович тяготился службою, редко заглядывал в округ и поговаривал даже о выходе в отставку, если б его не задерживало благосклонное внимание к нему начальства, ценившего в нем не ум, но честность.
Окончив распоряжение, Иван Степанович отпустил повара и приказал лакею подавать одеться. В это время горничная доложила ему, что его желают видеть по весьма нужному делу писарь X-ой волости и мужики с просьбой, "пришедшие еще до света", — добавила она.
— Что там такое? Что им нужно? — с неудовольствием спросил он и приказал ввести просителей в переднюю, предупредив горничную наблюсти, чтобы они вытерли ноги и не натоптали на ковре. Тщательно вымытый и причесанный, с дорогими перстнями на пальцах и запонками на груди белоснежной сорочки, в безукоризненно сшитом фраке, вышел Иван Степанович в переднюю, где в ожидании его стояли у порога крестьяне, а поодаль от них Петр Никитич.
— А-а, Болдырев! Ну, что такое? Какое такое дело? — спросил он, кивнув головой на низкие поклоны крестьян и пристально рассматривая порыжевший нанковый сюртук Петра Никитича и шаровары его с побелевшими коленями.
— Извините, ваше высокородие, что осмелился беспокоить вас, но встретилось не терпящее отлагательства дело, — отчетливо ответил Петр Никитич, слегка склонив голову на правую сторону и стоя перед ним с полузакрытыми глазами, как бы не вынося блеска, каким обливал его Иван Степанович.
— Хорошо, после объяснишь, — прервал его Иван Степанович. — Ну, а вам чего нужно? — спросил он, обратившись к крестьянам.
— Окажи нам защиту, милостивец; за тем и пришли к тебе! — в голос заговорили они, сопровождая слова поклонами.
— В чем защиту, от кого? Вы какой волости? — спросил он.
— Белоярской, и села-то Белоярского! Мир нас выбрал ходательствовать пред тобой! — начал низенький, коренастый старик с нависшими на глаза бровями, из-под которых искрились черные проницательные глаза. — Обидит нас, батюшка, голова наш, Семен Алпатыч, с зятеньком своим, Антон Прокофьичем! Силы нет владать с ними, заступись! — И старик низко поклонился ему.
— Чем же обидят, ну?
— Много делов-то за ними, о-ох! Коли все-то посказать, и до вечера время не хватит… Мы, то есть, из села-то крадучись ушли: опаска брала, чтоб не проведал голова-то, что к тебе идем, да не запер бы нас в волость…
— Разве случалось, что он запирал в волость, кто шел на него жаловаться… а?