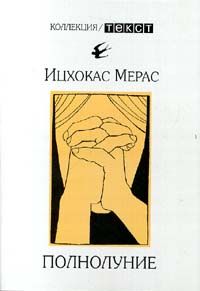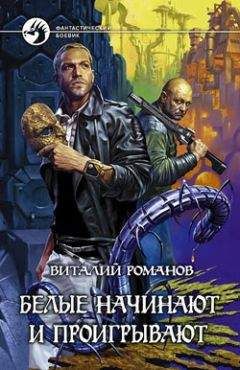Я только слушаю и смотрю на него во все глаза.
— Ты думаешь, что гетто — только в гетто, — говорит мне Янек. Напрасно ты так думаешь, Изя. Там, дальше, — тоже гетто. Только и разнице, что наше гетто огорожено, а там — без ограды.
Я снова хочу сказать: "Ты большой человек, Янек".
Но я молчу.
Мы оба молчим.
Мы идем и идем.
Я сам не знаю куда.
Янек опять заводит разговор.
— Нам надо поговорить, Изя, — начинает он. Этого я уже совсем не понимаю.
— Мы же поговорили, — отвечаю я. — Что еще ты хочешь мне сказать? — Я ничего не сказал еще, Изя. Видишь…
Снова «видишь». В который раз за этот вечер?
— Видишь… — говорит Янек и опускает глаза. — Я хотел бы тебе сказать… Я хочу попросить тебя… Ты не обидишь Эстер? Мейки нет, и я теперь ее брат.
Я не знаю, что ответить. Я словно онемел.
— Я за нее жизнь могу отдать, — говорит Янек. — Ты не обижай ее, Изя. Она… такая… сам знаешь…
Что с ним? Зачем он говорит мне это? Я мог бы сказать ему, что я Шимек, а Эстер — Бузя. Мы с ней Шимек и Бузя. Разве Шимек может обидеть Бузю?
Я мог бы это сказать, но говорю совсем другое:
— Я мог бы и обидеться, Янек. Я мог бы даже подраться с тобой, если б ты не был ее братом. Как ты можешь такое думать? Тебе не стыдно, Янек?
Он еще ниже опускает глаза, нагибает голову.
И широко, по-детски широко улыбается.
Потом Янек вскидывает голову. Он не смотрит на меня, но я вижу, как вздрагивают его ресницы — он жмурится, словно в чем-то виноват, и хочет просить. у меня прощения.
— Конечно, — говорит Янек. — Я давно знал, что ты хороший друг и не сделаешь ничего плохого. Но все-таки я должен был поговорить с тобой. Правда, Изя? Ведь мы должны были поговорить, да?
— Поговорить надо было, — подтверждаю я. — Видишь…
Так говорит Янек.
— Ладно, — говорю я. — Побегу. Мне надо торопиться.
— Беги, — говорит он.
— Правда, мне очень нужно.
— Беги, беги.
— Увидимся завтра.
— Ладно, завтра. Беги, беги. Она уже там, дожидается тебя. Я знаю… беги, беги.
Янек смотрит на меня глубокими синими глазами. Он расстроен? Нет, не может быть. Мне только кажется. Он ведь знает, что я никогда не обижу его сестру.
"Бузя!.." — мысленно кричу я и бегу.
Я тороплюсь, я очень спешу.
Мне действительно надо очень, очень спешить.
Глава четвертая
ХОД ДВЕНАДЦАТЫЙ
1
"Я должен сделать ничью", — думал Исаак.
Шогер придвинул кресло, облокотился на столик поудобней и сцепил пальцы.
Ход был не его.
— Послушай, — сказал он и снова прищурился, как перед началом игры. Ты абсолютно не волнуешься?
Исаак не ответил.
— Все же я не думаю, чтобы человек сохранял спокойствие в такой игре, где можно проиграть самого себя.
Исаак молчал.
— Ты заставляешь меня осторожничать. Представь себе, что я зевну и ты ненароком влепишь мне мат. Понимаешь, чем это грозит?
"Он мешает мне думать, но я все вижу… Если пожертвовать пешку, мой конь выйдет в центр и будет стоять как вкопанный, его уж не выкуришь оттуда. Пока что я играю неплохо… Надо свести вничью…"
Шогер понизил голос и заговорил тихо, почти шепотом:
— Что было бы, если б я сидел на твоем месте, а ты — в этом кресле… Признаться, я бы изрядно поволновался. О! Боже мой… К счастью, такого быть не может. Не правда ли?
"Да, такого не может быть, но я должен думать не об этом. Надо все забыть. Почему я не могу забыть обо всем на свете? Потому что Шогер сидит в своем кресле и думает, что ему принадлежит мир? Весь мир- его? И он, Шогер, волен делать с миром все, что взбредет ему в голову?"
2
— Я родил дочь Рахиль, — сказал Авраам Липман.
3
Окно палаты было распахнуто. Легкий ветерок шмыгнул сквозь марлевую занавеску, обежал всю комнату, торопливо ощупал койки и прохладными своими пальцами коснулся горячего лба Рахили.
Хорошо, когда душным летним полднем проникает в палату легкий ветер, разгоняя застоявшийся запах эфира и освежая женщину, которая родила пять дней назад.
Мальчик был ненасытен. Он высосал одну грудь, тугую, полную, и ему было мало. Рахиль вынула вторую и сунула ему в рот набухший сосок, побуревший, сочный, как спелый плод. Ребенок стиснул грудь и зажмурил узкие серые глазки. Он жевал торопливо, больно, как бы прикусывая маленькими тупыми щипчиками, но Рахиль не застонала, не вздрогнула.
У него было морщинистое, как у старика, личико, узкий носик, а волосы и ресницы-белые. Они казались седыми на розовой коже.
Рахиль зажмурилась. Ей хотелось, чтобы прошел уже месяц или два, чтобы можно было высвободить руки сына, чтобы эти руки сами искали материнскую грудь и сжимали бы, и ходили но ней крохотными розовыми пальчиками.
"Не важно, что болтают люди, они ничего не знают, — думала Рахиль. Не важно, что волосы у него длинные и светлые, а у меня и Давида — черные как смоль".
Она нагнулась, мягко коснулась губами маленького морщинистого лобика. Синяя жилка на виске младенца быстро вздрагивала, билась, словно куда-то спеша.
"Моя плоть и кровь, — думала Рахиль. — Придет время, кончится война, мы будем жить и вырастим сына. Сын! Моего сына они не тронут. Его никто не смеет тронуть. Они сами разрешили родить, его не тронут".
— Давид, Давид? — шептала Рахиль. — Ты хотел сына, правда?
— Да, Рахиль, я хотел сына.
— Ты хотел, чтобы в мире остался человек, который будет носить твое имя?
— Нет, Рахиль.
— Ты хотел сына, потому что твой отец имел сына? Потому что отец твоего отца имел сына и отец его отца тоже?
— Нет, Рахиль.
— Я знаю, Давид, дочь тянется больше к матери, а сын — к отцу. Ты хотел, чтобы наш ребенок был ближе тебе? Тишина…
— Почему же ты хотел сына, Давид? Потому что нашего Мейшале увезли в Понары?
Тишина…
— Скажи, Давид, а то уж я и сама не знаю почему. Хоть я тоже хотела сына. Говори, Давид.
— Я хотел, чтобы у нас был сын от нашей любви. Мы ведь так любили друг друга, Рахиль, и должен был родиться сын. Неужели ты не понимаешь?
— Я понимаю, я то же самое говорю, Давид. Но почему ты не можешь взять в свои сильные руки нашего маленького сына? Тишина…
— Ты не сердишься, что нос у него такой узкий, не похож ни на мой, ни на твой? А глаза серые. Твои карие, мои синие, а у него — серые. Почему они серые, Давид?
Тишина…
Окно было открыто. Ветер подкрался, и его прохладные пальцы снова ощупали влажный, горячий лоб Рахили. Живой красный комочек, туго стянутый пеленками, больно жевал грудь маленькими тупыми щипчиками.
Рахиль откинулась на подушку. Она хотела плакать, но глаза были сухие, без слез. Трудно плакать без слез, тем более женщине, которая родила пять дней назад. Во рту было сухо, в горле сухо, все пересохло у нее внутри.
Она прижимала к груди запеленатого младенца и шептала тихо-тихо, как легкий ветерок в марлевой занавеске:
— Моя плоть, моя кровь… Моя плоть и моя кровь…
Палата была самой маленькой в больнице гетто: три шага вдоль и два поперек. Здесь стояли всего две койки. На второй лежала Лиза, девушка лет восемнадцати. Она тихо постанывала. У нее были трудные роды. Она болела перед родами, была больна и теперь.
Обе очутились в этой палате неделю тому назад. Прежде они не знали друг друга. Рахиль жила в гетто, а Лизу доставили из лагеря, который назывался «Фэл». Лиза родила вчера и еще не видела своего ребенка. Она была очень слаба, совсем не разговаривала, только тихо стонала. Впрочем, она и раньше-то не вступала в разговоры, все спала или делала вид, что спит. Она сказала лишь, что зовут ее Лиза, что она из лагеря «Фэл» и что евреи там живут точно так же, как и здесь, в гетто. Рахиль спросила у Лизы:
— Из вашего лагеря тоже возили детей на прививки? Лиза кивнула.
— Так и Мейшале моего увезли. Откуда мне было знать?
Да, тогда еще никто не знал.
Приехал большой автобус, желтый, с красной полосой и светлыми окнами. В гетто такого не видели. Если и приезжал, то черный фургон без окон.
Из автобуса вышел Шогер.
— Матери! Слушайте, матери! — крикнул он. — В городе эпидемия дифтерита. Ведите своих детей, мы свезем их в военный госпиталь и сделаем прививки. Вы прилежно работаете, и я не желаю, чтобы ваши дети умирали. Ведите своих детей, женщины! Автобус был красивый, желтый, с красной полосой, совсем не похожий на черный фургон без окон.
Когда Давид вернулся с работы, он уже не нашел сына. Лиза слушала молча, только глаза горели.
— Видишь, — говорила Лизе Рахиль, — теперь я снова рожу. Если будет сын, я снова дам ему имя Мейшале.
— Мейшале, — шептала теперь Рахиль, прижимая губы к морщинистому лбу младенца. Она повернулась к Лизе, посмотрела на ее запекшийся рот и сказала: — Потерпи. Потерпи чуточку. У меня вторые роды, мне легче. А ты впервые. Первые годы — трудные.