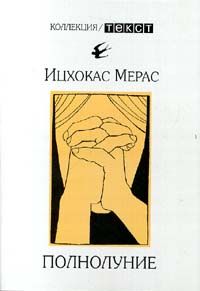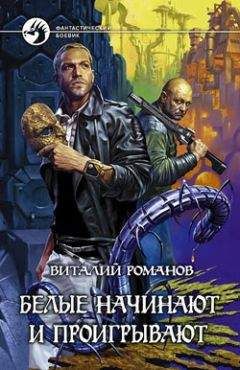1
Когда фигуры были расставлены, Шогер прищурился и, помедлив, взял две пешки — белую и черную. Он их спрятал в ладони и встряхнул.
— Ну, кто начинает? Я или ты?
Его уши подергивались, бледная кожа под редкими, прилизанными волосами вздрагивала.
Он волновался.
"Будь я индейцем, — думал Исаак, глядя на его шевелящиеся волосы, — я бы, наверное, срезал этот скальп…"
— Не знаешь? — спросил Шогер и выставил руки перед собой. — Если не знаешь, я скажу тебе. Все на свете — лотерея. Шахматы — лотерея, мир лотерея и жизнь — тоже лотерея.
"Он здесь хозяин, и все-таки боится…" — думал Исаак.
— Знаешь что? Ты можешь выбрать. Я предлагаю тебе черные. В лотерее, как правило, проигрывают.
— Левую, — сказал Исаак.
— Ну, смотри.
Шогер разжал пальцы. На ладони была белая пешка.
— Еврейское счастье, — усмехнулся он. — Я не виноват: ты выбрал сам.
"Неужели это смерть? — подумал Исаак. — Я не хочу умереть. Разве есть на свете человек, который хотел бы смерти?"
И все же ему достались белые.
Исаак повернул доску, бросил взгляд на фигуры и сделал первый ход.
2
Вы знаете, как светит весеннее солнце? Вряд ли вы знаете, как оно светит. И откуда вам знать, если вы не видели, как улыбается Бузя. Весеннее солнце светит, как улыбка Бузи, а ее улыбка — такая же светлая, как весеннее солнце.
Я знаю, я увидел ее вчера, и мне стало страшно, что только сейчас я встретил ее. Она живет в конце темной улички на другой стороне гетто.
Я был просто дурак все это время. Я не знал, что у нас в гетто живет Бузя.
Она шла с подругами.
Я взглянул на нее и остановился, не в силах оторвать глаз. Тогда она улыбнулась. Она пожала легкими своими плечами, будто не понимая, чего я встал на ее пути. Улыбнулась и пошла своей дорогой.
Потом она обернулась, и я снова увидел ее улыбку. Теперь я знаю, как светит весеннее солнце. Оно светит, как улыбка Бузи, а улыбка Бузи-как весеннее солнце.
Вчера я не знал еще, как ее зовут. Но увидел ее и вспомнил "Песнь песней".
Я вспомнил девочку из "Песни песней" Шолом-Алейхема, первой книги, которую прочел в детстве, и дал незнакомке имя Бузя. Мне хотелось, чтобы я был Шимек, а она — Бузя. Чтобы вокруг не было узких уличек гетто, обнесенных высокой стеной.
Чтобы не было людей с желтыми звездами. Чтобы мы были еще маленькими и только вдвоем. Шимек и Бузя.
Чтобы сидели на широком, без конца и края лугу, на мягкой зеленой траве, и чтобы я мог сказать:
"… Бузя-сокращенное имя: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. Она старше меня на год или два, а обоим нам нет и двадцати. Теперь потрудитесь посчитать, сколько лет мне и сколько Бузе…"
Вы знаете, где я сейчас?
На другом краю гетто, в конце узкой улички, той, на которой живет Бузя. Я сижу на каменном пороге. Странная прохлада исходит от этого гладкого Камня и растекается по всему телу, но я не встаю. Может быть, это холодок, оставшийся еще с зимы и не успевший растаять на весеннем солнце, но мне совсем не холодно. Мне тепло. Если бы мама была жива, она бы поправила платочек, ровно лежащий на голове, и всплеснула бы руками.
— Изя! — сказала б моя мама. — Изя, ты же молодой человек, ты уже почти жених, а сидишь на холодном камне, как мальчик. Изя! Ты ведь, можно сказать, мужчина, чтоб не сглазить, а того и гляди придешь домой с готовой болезнью, не дай тебе Бог! Я сижу. Мне тепло.
Мы только что вернулись с работы. Я тут же умылся, натянул свою красивую голубую рубашку и побежал сюда, к этому каменному порогу.
Я жду. Жду, когда появится Бузя. Когда сидишь возле дома, на каменном пороге, слышишь все: каждый шаг, каждый шорох, малейший звук. Хлопнула дверь — и мне кажется, что это Бузя. Прошуршали шаги- и я думаю, что это Бузя. Скрипнули деревянные ступеньки — я жду: вот сейчас выйдет Бузя.
Ее нет, не выходит. Может, вовсе нет никакой Бузи? Может, мне просто вспомнилась "Песнь песней", первая книга, которую я прочитал в детстве?
Снова хлопает дверь, шуршат шаги и скрипят старые ступеньки. Сейчас она выйдет. Не может быть иначе.
Да, это Бузя.
Я вскакиваю, смотрю на нее и не знаю что сказать. Все слова перепутались, перемешались у меня в голове.
У нее пепельные волосы. У нее большие синие глаза. Они смотрят на меня молчаливо и удивленно.
Я должен что-то сказать, не важно что. И я говорю.
— Бузя!.. — говорю я и сам над собой готов смеяться. И она действительно смеется.
Сверкают белые жемчужные зубки. Ее губы горят, как алые ленты, а щеки цветут, как маки.
— Кто ты? — спрашивает она. И опять смеется.
— Я — Изя, — поспешно отвечаю я. — Я — Исаак Липман, но ты зови меня Изей.
Она уже не смеется. Она слушает.
— Пойдем со мной, девочка Бузя, — говорю ей, — я расскажу тебе, кто я.
— Почему ты называешь меня Бузей?
— Идем, я все тебе расскажу.
Она идет со мной.
Я хотел бы идти с ней так далеко-далеко. Чтобы мы вышли на широкий луг и сели там на мягкой траве друг перед другом. Я рассказал бы ей все, что она пожелает. Но луга у нас нет, и уйти нельзя. У ворот- часовые.
Не важно. Мы можем сидеть и на этом дворе. Нам никто не мешает, здесь валяются деревянный ящик и трухлявое длинное бревно. Мы можем сидеть где угодно, все равно нам будет казаться, что мы на большом лугу, среди душистых цветов, и нет им конца и края.
Правда, Бузя?
Она молчит.
Мы заходим во двор и садимся. Я — на бревно. Бузя- на ящик. Она сидит на ящике, обхватив коленки и прижав к ним подбородок. Я улыбаюсь. Я хотел, чтобы она сидела вот так, подняв колени. Широкая юбка закрыла ноги, пепельные волосы рассыпались по плечам. Я могу сидеть так очень долго. Сидеть и смотреть на Бузю. Я не хочу уже ничего рассказывать. Зачем слова, если можно просто сидеть и смотреть.
Но она хочет, чтобы я говорил, она хочет знать, кто я.
— Кто же ты, Изя? — спрашивает она, и в ее больших синих глазах появляются два смешливых чертика.
— Я — Изя, — говорю. — Я — Липман. Я родился здесь, в этом городе, мой отец- портной, и его пальцы исколоты иглой чаще, чем небо звездами.
Конечно, я мог бы рассказать, что брат у меня без пяти минут философ: он учился в университете, но не успел закончить из-за войны,
Я мог бы рассказать, что сестра моя — Ина Липман, та самая, певица, которая до войны объездила полмира.
Я мог бы рассказывать и рассказывать.
Лучше не надо. Она подумает, я хвастаюсь, задаюсь своими братьями и сестрами. Она еще рассердится, встанет и уйдет, и я останусь один. И снова, буду думать, что никакой Бузи нет на свете, просто мне вспомнилась "Песнь песней", первая книга, которую я прочел в детстве.
— Ина Липман — твоя сестра?
— Сестра…
— Та самая, знаменитая певица?
— Да, — торопливо говорю я Бузе, — но это не важно, правда? Ина — это Ина, моя сестра, а я — это я, Изя.
Бузя кивает, соглашаясь со мной, и я рад. Она кивает быстро-быстро, и ее пепельные волосы колышутся, как мягкие волны на реке, как спелые хлеба в поле.
Не сердитесь. Я соврал.
Это вышло нечаянно.
Я сказал, будто она старше меня на год или на два, а обоим нам нет и двадцати.
Это неправда. Я только хотел, чтобы так было. Как в "Песни песней".
На самом деле нам обоим уже много лет. И старше я, а не Бузя. Ей шестнадцать, мне — семнадцать с половиной. Теперь потрудитесь посчитать, сколько нам обоим. Нам уже тридцать три года с половиной. Много, правда?
Мы считаем вместе.
Сначала я загибаю один, другой и все пальцы правой руки, потом быстро загибаю на левой, но пальцев не хватает. Тогда я осторожно беру Бузю за руку и сгибаю ее пальчики. Но их тоже не хватает- так много нам лет!
Мы смеемся, оттого что нам не хватает пальцев.
И она говорит:
— Все равно не сосчитать. Один палец — один год. А где взять половину?
Я не смеюсь. Молчу.
Мы могли бы сосчитать.
У меня есть полпальца, только Бузя не заметила.
Это было давно, год назад. У ворот гетто лежала железная балка. Шогер подозвал меня и велел ее поднять. Я оторвал конец балки от булыжной мостовой, хотел было выпрямиться, но Шогер что-то крикнул и вскочил на балку. Я так и не успел вытащить палец…
Мы могли бы сосчитать, сколько нам лет, но я не хочу. Я сожму левую руку в кулак, и Бузя не узнает, что можно сосчитать и полгода.
Я снова смеюсь. Потом спрашиваю:
— Как тебя звать, Бузя?
— Меня зовут Эстер.
Она снова обнимает колени и опирается на них подбородком.
— Я тоже родилась здесь, в этом городе. Только у меня нет ни братьев, ни сестер. Был старший брат, но его уже нет. Папа — врач, а мама медсестра. Оба много работают, дни и ночи. Они работают в больнице гетто, и им очень трудно. Ты ведь знаешь, что евреям запрещено болеть заразными заболеваниями. Но таких заболеваний ужасно много, поэтому мама, и папа, и все другие лечат людей, вписывая неправильный диагноз.