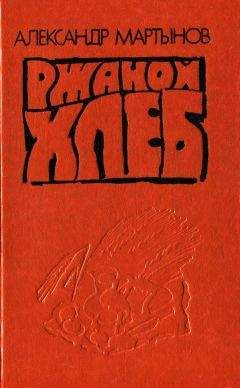И Королевы сгорели. Старый мой дом приютил погорельцев. Кроме меня, теперь две семьи. Ленька здоров, ожоги у Ольги прошли, у меня кое-что оказалось, и за обоими я фельдшерил. По-прежнему — я в угловой. По-прежнему — ночь, но как теперь все по-иному и какой я — иной.
Дни мои нынче стали полны и ночи жестоки…
Дни мои стали полны — Ольгой, конечно, и ночи жестоки — ею же, Ольгой, самое имя я повторяю неустанно и трепетно. Что же, старик? Да ничего, с собою наедине — не хитри! Разве старик? Я дошел до того, что часто гляжусь теперь в зеркало. Седые виски, но голова не седа. Морщины у глаз, но немного. Я загорел, молодые глаза; губы легли иронически. Но это затем, что я гляжу на себя и разглядываю. Стыдно ли мне? Даже не стыдно. Мне или радостно, или сурово-жестоко.
Есть уголок возле пруда. Там тишина, мирная заводь, и ветки рябины, развесистый куст, Но раз налетел туда ветер, короткий, стремительный, и как он забил и закружил алые гроздья! И было еще; это как сон. Дикая степь, и в дикой степи раскинут костер, и одно только знаю, что Русь, древняя степь, и седая полынь, ровный огонь. И опять налетает скакун, и как всколыхнется, взметнет и затрещит в черную ночь алое пламя! И полосы ночи между огня — как темные косы, как змеи…
И все это — Ольга. Я ее вижу и за работой, и иногда (урвется минутка) за книгой, и как она ловко сидит, болтая ногами, на лошади, и как, сторожа в свою очередь сад, подойдет и положит мне руки на подоконник, и как на подоконнике очутится горка маленьких розовых яблок. Они еще не поспели, но у ранних сортов падалица уже хороша. Она и сама стоит со мной, ест. Лампа ее освещает. Ночь, и из ночи это лицо. Височки мокры от росы, и слышу, как тяжелит ее голову густая коса. Мы оба едим эти яблоки, я ем и гляжу, как у нее сияют глаза и как блестят ее влажные зубы, она — ест и смеется, ей нравятся тоже эти ночные свидания. Разговоры наши несложны. Ее интригует, что я из господ, и она иногда любит поддразнивать. Я помню, тогда — на рябине: «здоровый мужик, а как дитё». Могла бы сказать: «старый мужик», но так не сказала. И больше всего я для нее — «как дитё». Это так и осталось.
Боже мой, сколько я плел и плету всяческих хитросплетений, как потом мучаюсь, как сам себя презираю! А между тем, надо сказать со всей прямотой: я Ольгу люблю. Как это сталось? Я — как вершина, как дуб… Я, у которого все отгорело и пепел рассеяло по ветру… Какие слова, и не только слова! — и вот — я же как мальчик, не только что все позабывший, но как бы еще ничего и не знавший. У меня были дети, жена, над головою прошла революция. Я уже раз закопал, вырыл у дуба ямку и закопал прошлую жизнь. Но я не знал и не думал, что на могиле той зацветут молодые цветы.
Так поступает со мной родная земля, которая шлет мне — очарование. По-человечески это — нехорошо, предосудительно: знаю, казнюсь. Но по-иному… в дыханьи космическом, да, в нем я уже прав. И даже не «прав», там это слово не к месту. И теперь голова моя — горяча, я не боюсь говорить себе многое, раньше того не сказал бы.
Вот мои ночи. Я долго хожу и терзаюсь — я, человек, интеллигент, даже немного… христианин. Это «немного» выдает меня с головой. Нельзя быть немного христианином. Но эта стихия сильна, и от нее не отрекаюсь. Но… но я бунтую — на старости лет. Терзаться? — зачем? Ночь ли терзается? Сад мой, терзаешься ты? И не есть ли в терзаниях — мое отпадение, гордыня моя?
Я говорю: хорошо, что облетела моя мишура, что нищета мне открыла — меня. Но я не морализирую. Кажется, я только теперь приобретаю и еще одну позднюю мудрость: мораль — человека не покрывает, и все мироздание задумано шире, чем в этой диаде: зло и добро. Первый зеленый росток и последний, позднею осенью на холодный покров канувший лист; эта эпоха от прозябания и до уснения, эпоха цветов и любви, зачатия и созревания, — что она знает о зле и добре? И что о добре знают и светят добрые звезды, или о зле, — что повествует нам злой ураган, это с краткою жизнью божественно-дивное чудище, мироголосое?
Так. Но человек?
Сначала спокойно и методически, потом закусив удила: таков мой ночной разговор с собою самим. Разве не знаем, как часто добро развращает и сеет порок, и напротив того, как упорно ко благу ведут на железной цепи и подгоняют ременным кнутом? И самая нравственность? Вспомнишь знакомых людей, самых приличных, и как не сказать: вот человек, который так подло возвысился до… даже не нравственности, а только порядочности и как добродетельно, как самодовольно — ею он сыт!
Да, чего только стоит добро, добытое к старости, после постыдного, а часто и прямо разбойного прошлого, когда уже чаша верхом полна непотребства! Достойной ценой на земле покупается святость… и не есть ли часто она — окаянная святость?
Таков мой покой и так догорает на кроне моей вечернее солнце… Но разве искал я покоя? Земля не покойна и небо в движении. И самое солнце: вечернее — оно же и утреннее.
Нет, я не морализировал о богатстве и прочем. Не то меня радовало, что я его отдал, недорогою ценою купив душевный покой, а радовало — как человека, который скинул обузу, его тяготившую — освобождение радовало. И оттого не хотел новых обуз: здесь, на родимой земле легче быть нищим и вольным… а свобода моя — не непременно покой: может быть, муки, может быть, радость, а может быть, скорая смерть. И вот эти муки пришли, и радость пришла, значит, со мной моя жизнь. Смерть же… Я вспомнил Павлушу, то, что ему не сказал: умереть хорошо — достойною смертью; твердо, спокойно. Так меня учит земля; так меня учит любовь; и так меня учит — Ольга — моя.
Я хотел еще здесь записать о касатках, тех самых, что из огня пролетели над головой. Федор Степаныч, Ольгин отец, сказал мне раздумчиво: — Я этого ждал — пожара, несчастия. Эти касатки к нам прилетали каждой весной. И выводили детей. А в этом году прилететь прилетели, ну а семейства не завели, остереглись. Так я и думал: будет беда.
Не знаю, конечно, но на каком-то мы переломе. Мир наш стал шире, и мы овладеваем пространством, а то, что называем пространство (как посмотреть и как ощутить), не есть ли и время? И вот, я не вижу тут суеверия: касатки, наверное, видели то, чего мы не видим. И где-то, наверное, есть уже то, что придет, и, ступая во времени, мы совершаем свой путь — вернее сказать: по времени; да.
Помню я вечер; недавний. Я был в полях, не у реки. Дикое поле (кажется, что незасеянный пар) лежало таинственное. Низко над ним стояла луна, медлительный щит. Частая сеть частых, как травы, теней серела и поколыхивалась между пустынною зарослью. Это было как степь, давняя, дикая. Жесткие травы: полынь, кустики дикой рябины, желтой ромашки, ржавых под месяцем. Наверное тут были бои, шла татарва и натыкалась на русские копья. И я шел под луной, и времени не было. Было славянское имя, живое и древнее. И я думал об Ольге, и была она так же вот, в крайней избе, и ждала у окна. Может быть, пряла, но и ждала. Степь и бои — недавние, давние: сеча; все это было одно. Но по степи я шел одиноко, была только ночь, сердце — костер, и эта земля; она же и Ольга. Тогда я со всей полнотою впервые почувствовал это: Ольга, она же земля. Оттого-то и никуда мне не уйти.
Так видел я прошлое, и было оно настоящим. История здесь. И когда заглянул я вперед, то увидел… все то же: степь и полынь, и над полынною степью медленный щит, возносимый над темной землей. И впереди — смутно темнел старый мой дуб. А там, на вершине, не вижу, но знаю: гигант — седой и суровый татарник. Не там ли мне лечь?
А мы — не касатки? Ольга и я? Также и мы, не вьем мы гнезда, мы только любимся. Я написал это слово, как если б и Ольга любила меня. Безумие? Нет! Что же мне делать, если и это — я чувствую? Трудно писать. Ты не обманешь меня? Ты меня не обманешь, земля?
Земля не обманывает. Сердцем, душою, всем существом я тебе предан, земля. Такую ли верность — обманывают? Нынешний день — знаменательный день. Степь и курган, битвы, татары… Чего же еще не хватало, — разве что клада? Так все и вышло; только в России живы еще чудеса и необычайности. В поле вязали. Завтра Илья, грозный, громовый пророк. И не только пророк, между святых он как бог, древних отцов древний Перун, доселе живущий и в христианстве нашем, проблематическом. Надобно чтить богов своих предков, завтра никто и не выглянет в поле. Нынче же спешка, дом мой с утра начисто пуст, даже белоголового Леньку мать унесла.
Я не пошел, мне захотелось остаться, подумать; вернее: додумать. Пишу для себя, а потому ничего не скрываю. Библия, старцы и жены их молодые… Разве земля уже стала не та? Да и я — что я за старец? Мне пятьдесят четыре; полвека; но когда говорю: сорок два, мне еще верят; стало быть, сорок; а когда я люблю, мне и не сорок, а двадцать. Так говорит веселая моя арифметика, а вместе с ней такова и веселая правда моя.
Мне еще не было и двадцати, и только тогда я любил, как нынче люблю. Ольга из Мокрого… Все же, что было потом: и заграница, и голубые воды Италии, и вкус и изящество, вся моя умная жизнь, и умная любовь моя, ее освещавшая, как освещает гостиную умная вещь электричество, все это было не то. Отныне живу я под солнцем и только тут, наконец и опять, я в родимой стране: Перун в вышине, земля под ногами и человек — как он есть. Вот почему пришел я — домой. И кто эту землю может отнять у меня? О, никогда сразу не знаешь, зачем и куда ты идешь…