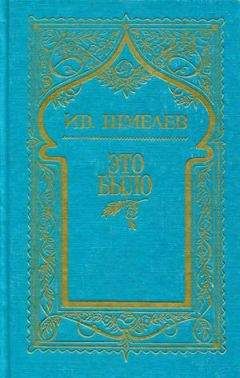Слыхали ли вы, как органно звучат бархатные голоса георгин? как солнечно-звонко кричат красные маки и детски лепечут маргаритки?
Я целовал ласточек на лету, бабочек над цветами, столбики суетливой мошкары в тихом вечернем свете. Я завел кротких кур, важно покойных палевых кохинхин, этих себя уважающих дам в перьях, даривших мне чудесное – «всмятку». Разговаривал о философии жизни с уравновешенным петухом, отвечавшим мне вежливо:
– Все проходит, мой друг… все – пустяк.
Любовался озабоченными маменьками-индюшками, деловито поглядывавшими зеркальным глазком на небо, вывернув голову: – дождя не будет ли? Я узнал маленькие секреты этой удивительной мелюзги, их наивную простоту переживаний, покой и трепет солнечных радостей, их мистический страх в сумерки, когда они хотят и боятся отдаться ночи, вытягивая в темноту шейки. А ласки сколько, ласки и радости перед человеком-другом!
С отвращением вспоминал я рёв – рык, влажное – тррр… – от вспоротого брюха и топот подкованных орангутангов… животную вонь пота, шмыганье сопливых носов и зоологические «искания»…
Заглядевшегося на меня индюка я спрашивал:
– О чем, брат, думаешь? Че-ло-век… – это звучит… гордо?
Пыжился-багровел индюк, откатывался, словно на колесиках, кругами, возил по земле рулями-крыльями:
– Вот э-то… – гордо! Милый гордец!
Я целовал эти разноглазые птичьи головки, без грязных думок, все разные, все – знающие самые недра жизни. Их нюх, конечно, выше Бергсона.
Я ласкал глазами пегонькую телушку, зашедшую к вечеру на далекий бугор, раздумавшуюся от тугого брюха. Она задумчиво смотрит в потемневшие вдруг поля, осматривается пугливо-недоуменно – это что? ночь?.. – и детской еще трубой пускает ночи свои испуги.
Я слышу голос вечерней бабы:
– Милуша-Милуша-Милуш!.. Чево ты тама… иди, не бойся…
И чую я, как ласка животным шелком связывает обоих.
Но вот и конец. Меня призывают продолжать, говорят, что нервы мои в порядке, и я могу опять разделывать под орех.
Жаль, что я не маленькая зарянка, владелица чудесной квартирки на старой липе, с электрическим освещением в июльские ночи, когда небо играет пудовыми шарами. Почему не могу я сновать по садам на крыльях бесшумных, присаживаться на жасмине и спрашивать сумрачного человека на подоконнике:
– Я-не-та-ка-я?.. я-не-та-ка-я?..
Я прощаюсь, растроганный. Индюку говорю, что индюк – царь природы, и он кружит от гордости автомобилем. Петуху признаюсь, что теперь вполне разделяю его философию, – все проходит! Телушке советую не бояться ночных полей и вырасти в молочную гору. Сыплю всем пшена и гороху досыта и шепчу солнцу: Храни детей!
Говорю коротенькое словцо цветам-сироткам и смущенно сую под плащ глупую шашку. Прощай, тихое небо, прощай! И ты, вольное солнце, проснувшееся за лесом, прощай… Кто это – будто зовет меня? Ах, зарянка… Счастливая, будешь в тишине жить…
Меня провожает мудро-унылым глазом старуха – кобыла, с отвислой губой, – «Матрона» – словно хочет сказать: «эх, зря! оставайся-ка лучше с нами… столбунцы будем есть, сныть сладкую!..»
И знаете, что сказал я тогда этой мудрой старушке?
Я плотно сел в тарантас и сказал в тугую спину Антона:
– Но если я еще не дорос до вашей свободы, мадам! Если я до ужаса боюсь смерти, страха ее боюсь, и потому… лезу к ней в лапы! Вам, мадам, этого не понять: это звучит… гордо!
Вот закрою глаза – и так ясно слышу: сочно похрустывает кобыла, отфыркивает в довольстве… постукивает на колеях тарантас, прощально поет петух… Какие облачка стояли над головой, с золотисто-розовыми краями! А в длинной аллее, за липами, дремали еще в кустах тени последней ночи… Вот-вот проснутся…
Не воротишь.
II
Снова грохот колес, водовороты на станциях. Снова мешки и мешки, котелки и штыки, рёв и рык, и несмолкающий скрёб тысяч и тысяч ног, все отыскивающих верную дорогу. Грязные стаканы на липких столах, женщины, с блудливо-обещающими глазами и кровяными губами трепаных кукол. Ночлеги в логовах, с граммофонами там и сям, с гиком молодых лошаков, с визгами баб, потерявших солнце. Гроба и носилки полевых госпиталей; схватки обозных у переправ, казаки, с крадеными коврами на руке, с пузатой розовой вазой, втиснутой в торока с сеном; разрываемые на части станционные коменданты, посылающие всех к чертовой матери… – плеск и хлябь человечьего наводнения.
Запах кровавых полей проникает в меня до недр, и уснувшая было сила начинает шуметь и звать. Я вспоминаю болтливую канарейку и жалею, что ее нет со мной. Подхватывает меня… захлестывает волна кровавого прибоя: здесь скат…
Где-то задерживаюсь, кручусь в веселом саду, в пропыленных акациях, укрывающих голоту и бесстыдство туманной восточной женщины, сбежавшей с помоста из ящиков и бочонков, где она совала в себя змей-шипучек и обвивала жирной рукой в индийских браслетах позевывающую пасть бородатого тигра в клетке. Смеюсь, как на солнце после болезни, на колченогих скрипачей в рыжих фраках, наяривающих зудливое. Пью с подлецом-импресарио, от которого несет одеколоном и чесноком, и которого губы подозрительно сини. Вечером режусь «в железку» с интендантами и жидком, называющим себя почему-то Михель-и-Анджело. Он курит ноздрями, хлестко рассказывает анекдоты и разом выбрасывает четырех тузов пик. Выкручиваюсь в смертельной тоске, – с чего?! – частенько спрашиваю запыленное небо: – «а что-то теперь мои дамы в перьях?» – и мне до слез хочется поговорить с петухом.
Вспыхивает во мне огневая мысль, рвущая все слежавшиеся, вялые мысли, – и я кричу в эти рожи, лакающие пиво и бессарабское:
– Хрюкайте же, скоты! вставайте на четвереньки, ревите, лайте! Довольно в человеков играть! Или сумасшедшая мысль взорвет все! Мысль все порвет и сожжет!
Увы! Никакая мысль не могла бы сжечь их и этот проплеванный садишко. Они благодушно хлопали меня по плечу, чокались пьяно и, потирая пропотевшие лбы, зевали:
– Гроза будет… За девчонками, что ль, послать?..
Я с тоскою гляжу в запыленное, без звезд, небо и призываю сказку.
Я покупаю у оборванца-цыгана укротительнице-тигрице редкостное Распятие, из слоновой кости, в серебре чеканном, столетия благословенно дремавшее в родовом замке, обласканное мольбой голубых очей, обвеянное ароматами светлых волос красавицы польки, изнасилованной войной, – и на моих глазах, бесстыжая человечья машинка, эта мамзель Тюлю, родившаяся растленной, со смехом пьяной сучонки колет моим подарком орехи, как молотком!
Перед фронтом я отыскиваю в себе ошмётки веры. Рвавший людей в куски, я возмущен, взбешён, осыпаю мамзель Тюлю самой солдатской бранью, вырываю у ней Распятие и дарю Его… грязноносой дочке хозяина сада. Потом… – примирение, тигр, вдруг оказавшийся парикмахерским подмастерьем из Черновиц, – вот она, сказка-то! – безумства на мертвом тигре-ковре, среди резиновых змей-шипучек, – бред-обман убиваемой правды жизни…
А чего стоит она, линючая правда жизни!
Все это – подготовка к военному бремени, может быть – к повторению «гроба».
Но пена еще не кончилась.
До фронта еще верст семьдесят. Я вызываю со станции моего мальчугана-шофера Сашку с машиной. Он привозит веселенькие вести: немцы опять зарылись в моем «гробу», опять ведут ходы, пускают из миномётов «лещей», а вчера разорвало моих семерых бомбой с аэроплана…
– Опять выбьем! – говорит Сашка, краснорожий, сытый, шарящий по тылам «за пряниками».
Затылок у него крепкий, несокрушимо-уверенный, всегда успокаивающий меня.
– Не твоими боками только.
– Хочь и моими! Андеференто. Катим…
Перед поворотом на Б. – Сашка начинает ёрзать рулем и играть скулами, – скулы у него еще лучше затылка, с глянцем! Едем тише, на перебоях. Машина начинает покашливать. Сашка ругает масло, бензин, магнетто. Зеркало души его – затылок – как будто начинает потеть, бойко играют скулы…
– Да что такое?..
У поворота машина оседает с ворчаньем, Сашка слезает и начинает нырять под кожух. В промежутках я слышу, что в прошлый заезд забыли у казначея запасные части, и надо бы, вообще говоря, ремонт. Он кряхтит под машиной, лёжа на брюхе, стучит ключом и сопит. Я понимаю, что ему хочется в Б., где у него пряничная девчонка.
До Б. – верст тридцать, в сторону от большого тракта.
Манит и меня в Б., прохладный покой холостяка-приятеля, лет на двадцать старше меня: отоспаться на турецком диване, под «Пашой с кальяном», есть литовскую ветчину, пончики и хрусткий «хворост»; хочется золотистой старки из подвалов «самого Понятовского», ласкать пальцами пузатые потные кувшинчики со столетним медом, с бальзамами, с вытяжками, со знаменитым «детским дыханьем», от которого грезы наваливаются туманом, – и открывается мир нездешний. Старикан – казначей обязательно заколет тельца, а котлеты прикажет Зоське вымочить в сливках и обвалять в грецком орехе.