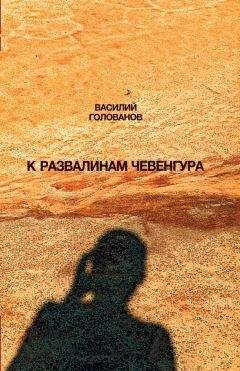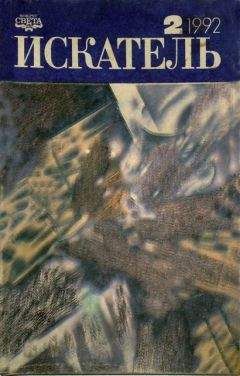Лишь выдирая гвозди из порушенного мною сарая, я тоже понял, что этим поддерживаю какую-то тонкую справедливость мира. Не сразу понял. Поначалу-то я этот сарай сжечь хотел, и гвозди мне были не нужны, а вот кругляк, из которого он был построен, кругляк и доски - нужны как дрова; и так я стал разбирать сарай по косточкам, а при том, что у меня двое детей и они в один прекрасный день приедут ко мне, значило, что мне никак нельзя оставить груду ощетинившегося ржавыми гвоздями дерева. И тут я впервые, похоже, сделал работу так, как дед.
И только сделав, понял его; я понял, что таилось в его неторопливой старательности, в том, что даже раздражало меня как мальчугана чересчур уж резвого, - он не хотел выбрасывать в мир порченое, как сейчас это принято; он спасал вещи, спасал до конца, как людей, как раненых товарищей; может быть, поэтому и мир тогда был чище.
Ну а потом был лес. Целая эпоха моих походов туда, вслед за дедом. Не знаю, почему мне прежде всего вспомнилась кожа деда, когда он возвращался из леса: на ней (на шее) всегда были какие-то микроскопические черные пылинки, хвоинки. И вот когда хвоинки и мне стали сыпаться за шиворот, я вспомнил эту его влажную, потную кожу (он был белокожий, как Фроська) и то, как бабушка нежно льет ему на шею из кувшина воду после леса...
В лесу я все пытаюсь понять его и понимаю все лучше. Едва ли когда-нибудь мой дед сообщил мне больше удивительных сведений о самой сущности жизни, чем в это лето... Так было в первый раз, когда я пошел в лес, так бывает каждый раз, когда я иду один. Я встречаюсь с ним. Я становлюсь им. Вот уж не ожидал, дед, что когда-нибудь я стану понимать тебя и быть с тобою одним существом, тобою продолжаться во времени. Не матерью, не отцом - тобою. Это лето - твое. А может быть, это нечто гораздо более важное, может быть, эта встреча на всю жизнь. А тогда, значит, и Фроська не случайно на тебя похожа, дед?
С первого раза меня поразила спокойная доброкачественность одиночества в лесу. Из мира, как гвоздями, пробитого нашими криками, спокойно и с удовлетворением уходил дед в мир надежной лесной тишины, которая слаще любой музыки... И вот он откровенно ликовал, что остался один и может брести себе, наблюдая великолепное разнообразие жизни. Увидеть это глазами деда - было потрясающе. Я убежден, что он был тонким наблюдателем, и все эти "уровни жизни": паутинки, листики, фигуры веток, узоры древоточцев, мир луж лесных, которые я открывал для себя как бы заново, мир темного лесного, - он все это видел и шел затем, чтобы взять это, напитываться этим, да, кроме того, лес тогда был нехоженнее и дичее, чем сейчас, намного. Он потихоньку проторивал дорогу, которую и оставил мне в наследство - ведь я до сих пор не могу заблудиться в этом лесу.
Как-то я вышел на край болотца - тогда еще оставались ямы темной воды возле Острова - и загляделся на улиток-прудовиков: они ползали по пленке воды с той стороны и, неустанно работая своими терками-ртами, казалось, чистили ту сторону зеркала, в котором отражались облака, сосны, ольховая поросль - и в то же время скрывался темный, бахромистый и древний мир бурых отложений, водорослей, тритонов, мир, казавшийся мне в детстве бездонным, как вход в преисподнюю, - ибо правда нельзя было представить себе, что может быть дно у этого черного болотца. Я вспомнил, как мы подходили сюда с дедом - и он неизменно зачарованно глядел туда, внутрь, в зазеркалье.
Я вспомнил его взгляд, и эту его манеру бормотать что-то под нос, и вечное странное одиночество, которое охватывало его в лесу, так что его и не дозваться было... Теперь вот я шел и что-то бормотал себе под нос, самопроизвольно делая какие-то пассы руками, потом заметил, что бормочу что-то по-французски, но это не показалось мне странным. Журчащий говор как бы усыплял меня, и вдруг очень ясно, ярко ощутил я запах леса и такой же мощный прилив необъяснимой бодрящей сексуальности. Жена была далеко, я скучал по ней, но дело было не в этом, черт возьми, сексуальность была повсюду вокруг, повсюду был аромат тонкой и нежной, податливой женственности, которая всегда желанна...
Неужели дед тоже чувствовал это?
Во время прошлых прогулок я уже ощущал что-то подобное, но совершенно бессознательно, и сам удивлялся, почему это я вдруг то начинал двигаться как-то гимнастично, то красться бесшумно, как волк, почуявший мускус следов своей подруги? А сегодня я отчетливо, можно сказать, разумно ощутил большие деревья как живые существа, обладающие даже собственными голосами, а не только общим древесным терпением, которое делает плоть их благородной; существа, обладающие чем-то даже вроде собственной судьбы: у кого-то зарубок на душе побольше, у кого-то меньше и ствол глаже, а кто-то с рожденья прозябает на тощем свету и оттого неудачлив-некрасив. Я не очень следил за тем, где я, но сразу понял, что вступил с лесом в какие-то необычные отношения, раз он "говорит" со мной и испытывает то великолепными картинами жизни, то не менее великолепными видениями смерти.
Но ведь смерти нет, вдруг понял я. Вот мертвое старое дерево. На нем живет теперь мох, грибы, лишайники, оно служит прибежищем мириадам насекомых и пищей для других. Со временем оно станет еще более "мертвым" и не похожим на дерево и все больше похожим на землю, на теплую, рыхлую лесную почву, которая взращивает все, что окружает меня. Я понял, мне не надо бояться того, что мне открывается, начал постукивать палочкой о палочку и впал в какое-то легкое, смещенное состояние сознания, еще не шаманский транс, поскольку я не умел этим состоянием управлять, но сам транс был, в этом-то не приходилось сомневаться... Я, помню, обнял большую сосну, когда подумал, что заблудился. Я обнял ее, как пристанище в мелколесье, я припал к ней и нежно обнял ее - и ощутил, что плутать не буду, и вообще мне здесь спокойно и хорошо. Потом я подошел к березе и, обняв ее, тоже послушал. Она светло (но легкомысленно) подтвердила то, что сказала сосна, а елка вообще не отозвалась, сделав вид, что в целом (в самом главном, древесном) она не может не согласиться с сосной, но в то же время сделает все, чтобы максимально устраниться от этой затеи из ревности и обиды, что именно сосна взяла на себя, на свою породу, ответственность за все деревья в лесу, а ее, елку, даже не спросили. А она бы тоже кое о чем могла сказать... Во, такой у меня состоялся разговор с деревьями. Сосна была теплая. Я еще раз обнял ее. От нее не хотелось отрываться, как от женщины. После этого все пошло само собою: я шел все осторожнее, все неслышнее, стараясь превратиться в одно из существ леса и впитаться в него, впитать его в себя. Я разговаривал с грибами, благодарил и целовал их, я обращался к лесу и пытался услышать ответ.
Потом услышал, как одно дерево трется о другое... Поначалу мне правда по звуку показалось, что по лесу едет телега... Нет, первая мысль была, что грузовик - какой-то чудовищный грузовик, адски гремя цепями, надетыми на колеса и на все лады скрипя рамой прицепа, перегруженного хлыстами и вот-вот готового развалиться... Но какая машина, какая лесовозная дорога, откуда может быть? А телега - может быть? Наконец я сообразил, что это скрип дерева о дерево, в котором натурально слышен скрип телеги. Скрип сколоченной громадными деревянными гвоздями огромной дубовой клетки для Стеньки Разина, скрип всех сочленений этой клетки, да еще воплей самого этого Разина, сотрясающего прутья своей тюрьмы. Дерево стонало так надрывно, что я заговорил с ним. Чего, мол, ты хочешь? Может быть, ты меня зовешь? Причем я по-прежнему говорил по-французски, и это меня нисколько не смущало, это был другой, непрофанный язык, который к тому же оказался великолепно подходящим для общения с лесом, а главное, что я не испытывал ни малейших трудностей в разговоре. Вскоре к тому же я вспомнил, что лес по-французски женского рода и от этого понял, и очень остро, почти сексуально, повторюсь, пережил, что я вообще в лоне не ясной мне мощнейшей всепоглощающей женственности... Не знаю почему, но я решил, что и береза le bouleau, - ствол которой от соприкосновения с упавшей елкой и издавал этот душераздирающий скрип увозимой повозки с Разиным, беснующимся внутри, - тоже женского рода. Я пошел к ней, сознательно откликаясь на ее зов... Она позволила себя обнять, послушать. Ветер внезапно затих, ствол не издавал ни звука, когда я впервые обнял его. Потом (я даже просил об этом у ветра) ветер качнул крону березы. И вот прозвучал в ее стволе звук. Жалобный, доверяющийся мне, полнокровный женский голос. А-а-а! А-а-а!! какая-то жуткая боль саднила в нем. Сalme-toi... calme toi... - проговорил я, гладя ее ствол и прижимаясь к ней жарче... Она замолчала. Я понял, что мы общаемся - с существом другой жизненной природы - как мужчина с женщиной, и плевать тут на артикли французского языка! Я погладил ее гладкую кору, я прижался к ней пахом, и это доставило мне удовольствие - я даже лизнул ее ствол, хотя это было странно, будто я лизнул выросший до небес свой собственный исполинский фаллос... Она странным образом позволяла все это проделывать с собой и однажды даже простонала от удовольствия, когда ветер качнул ее красивую крону. Что это было? Флирт? Я не знаю. Через некоторое время я ушел от березы, боясь, что наш контакт чересчур брутален. Я ушел далеко, пока не оказался у мокрого луга в глубине леса. Лег на сухое место и прослушал, как кукушка откуковала мне двадцать лет. Еще двадцать. Наверху было небо и кроны деревьев. Облака. Одного этого дня было бы достаточно для счастья на всю жизнь. Потом раздался осторожный скрип, как будто приоткрылась калитка. Где-то рядом в стволе, поблизости конечно же, находится деревянный домик, и там все время открывались-закрывались какие-то двери, тикали и били часы... Опасаясь меня, обитатели, тихонько топоча, перебегали куда-то, но их животные только громче гомонили, и плакал разбуженный младенец. Тут же лежал огромный еловый выворотень - и опять для меня не было сомнения, что под каждым выворотнем есть вход в подземный мир. Светло-зеленые хвощи деликатно закрывали зияющую глубину. Лишайник, словно ступеньки гнома, спускался в этот ход, но дальше, как всегда, начиналась кисея из паутины в капельках росы, и, чтобы протиснуться туда, надо было стать не больше лягушки...