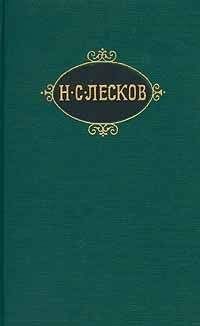А Александр Максимович Княжевич был иногда упрям и с странностями; он отвечал:
– У меня нет никаких вакансий.
Только тут же случился директор другого департамента, который был ловчее; этот и вызвался:
– У меня, – говорит, – ваше сиятельство, в одном отделении есть место помощника столоначальника, и мне образованный, скромный молодой человек очень нужен.
Канкрин поблагодарил этого директора, и место Ивану Павловичу тотчас дали.
Как он был рад – уж это можно представить, но только на другой день, по подписании приказа, директор призвал Ивана Павловича к себе и говорит:
– Есть ли у вас вицмундир?
Иван Павлович отвечает:
– Никак нет, ваше превосходительство: я занимал до сих пор неклассную должность и вицмундира себе не шил, да и сшить не за что.
– Ну теперь, – отвечает директор, – вы повышены, и на классной должности вам вицмундир необходим. Я назначу вам из канцелярских сумм полтораста рублей пособия, – извольте их получить и немедленно же закажите себе хороший вицмундир. Советую вам сделать его на Васильевском Острове у портного Доса. Он сам англичанин и всем англичанам работает. Его фраки очень солидно сидят, что для формы идет. Можете ему сказать, что я вас прислал: он и мне тоже работает. – А когда будете одеты, прошу ко мне явиться.
Дос сшил Ивану Павловичу такую вицмундирную пару, что тот сразу получил вид по крайней мере молодого сенатора.
– Чудесно сшито, – похвалил директор. – Теперь извольте же завтра представиться в этом вицмундире графу и поблагодарить его, так как вы вашим повышением обязаны непосредственному вниманию его сиятельства к вашим способностям и воспитанию.
«Эх, ты, черт возьми, какая загвоздка!» – подумал Иван Павлович.
Он и сам чувствовал в себе большую потребность благодарить графа, но, при воспоминании об обстоятельствах, которые предшествовали этому начальственному вниманию, мысли молодого человека путались. Ивану Павловичу казалось и смешно и даже как будто дерзко напоминать о себе графу предъявлением ему своей интересной самоличности. Иван Павлович думал так, что если он не пойдет благодарить, то это будет лучше: граф наверно не сочтет этого за непочтительность, а, напротив, похвалит его скромность; но директор понимал дело иначе и настоял, чтобы Иван Павлович непременно пошел представляться и благодарить.
Делать нечего, надо было повиноваться.
В нарочитый день, когда Канкрин принимал чиновников своего ведомства, стал перед ним в числе представлявшихся и Иван Павлович.
Только этот застенчивый человек, – сколько по скромности, столько же по тонкому расчету, – поместился ниже всех, в самом конце шеренги представлявшихся чинов. Этим Иван Павлович оказал скромность перед другими, более сановными лицами, а себе предуготовил ту выгоду, что, оставаясь последним, он мог принести свою благодарность министру наедине.
Действительно, так и пришлось: Канкрин отпустил по очереди всех представлявшихся, а потом подошел к последнему Ивану Павловичу и, не смотря ему в лицо, протянул руку, чтобы принять прошение.
Иван Павлович поклонился и молвил:
– Я, ваше сиятельство, не с прошением.
Канкрин вскинул на него глаза и проговорил:
– Что же вам угодно?
– Я являюсь, по приказанию директора, чтобы благодарить ваше сиятельство.
– За что?
– Я получил место…
– Прекрасно… я очень рад… Значит, вы его заслужили.
– Господин директор мне объявил, что вы сами изволили оказать мне в этом помощь.
– Очень может быть: вы мне помогали, а я вам помог. Это так и следовало. Желаю вам счастливо подвигаться вперед.
Граф поклонился и ушел, а директор призвал к себе в кабинет Ивана Павловича и расспросил его, что с ним говорил министр при представлении.
Иван Павлович отвечал:
– Граф изволили быть со мною очень милостивы и пожелали мне «счастливо подвигаться вперед».
Директор сделал жест и говорит:
– Это прекрасно, – вы можете считать себя устроенным: граф очень проницателен, и он не ошибся отметить в вас способного молодого человека, которому стоило только сделать первый шаг. Этот шаг теперь вами и сделан, а дальнейшее зависит не от одних ваших стараний, но также и от сообразительности, – присядьте.
Иван Павлович поклонился.
– Присядьте, присядьте, – повторил директор, показывая ему на стул.
Тот сел.
– Финансовая служба, – заговорил директор, – это не то что какая-нибудь другая служба. Она имеет свои особенности. Здесь идет дело не о юридических фантазиях, а о хозяйстве, – о всем, так сказать, достоянии России. Вот почему люди, которые допускаются к финансовым должностям, облекаются большим доверием начальства, и потому они должны быть ему крепки… Они должны, так сказать, представлять начальству в самих себе прочное ручательство, что, кроме естественно в каждом честном человеке предполагаемого сознания собственного достоинства и священного долга, они скрепили себя другими узами, которые в своем роде тоже равны присяге, потому что они произносятся перед алтарем и начертываются в сердце…
Директор был немножко поэт, но Иван Павлович в ту же минуту умел перелагать его оду на обыкновенный прозаический язык.
– Я говорю о том, – сказал директор, – что в финансовом ведомстве довольно трудно полагаться на холостых людей. Холостые люди – они, как мотыльки или как перелетные птички, всегда готовы порхать с цветка на цветок, с ветки на ветку. Посидел, вспорхнул – и нет его, и ищи где знаешь. В военной службе это, например, даже принято, но по финансовой службе это невозможно. Настоящий финансист, если он желает внушать к себе полное доверие, непременно должен иметь дорогих и близких его сердцу существ… Понимаете, чтобы ему было к кому чувствовать привязанность и было чем и для кого дорожить собою.
Директор чувствовал, что говорит вздор, и спешил окончить.
– Я разумею то, – заключил он, – что финансист непременно должен быть женат и иметь семейство. Да, да, да! Непременно! И я разумею не какое-нибудь ветреное семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансист, если он желает представлять собою надежные за себя ручательства, непременно должен быть женат. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, которого я не назову вам, раз прямо высказало мне свою тайную задушевную мысль, что, по его мнению, ответственные должности по финансовому ведомству предпочтительно надлежит доверять людям женатым. И мы этого держимся, если не совсем без отступлений, то по возможности мы женатым даем преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляют как следует. И я хотел бы сказать, что это прекрасные правила, выработанные практикой и освященные временем. И для того, кто имеет благородное честолюбие и кто способен никогда не упускать из виду сделать себе быструю и хорошую карьеру, – я надеюсь, что я не говорю ничего необычайного и нового. Кто религиозен и кто уважает заповедь божию, тот должен знать, что «не благо быть человеку одному». Этого положения обойти нельзя, ибо оно вечно, ибо это… так…
Директор поднялся с своего кресла, вознес вверх правую руку с двумя выпрямленными пальцами и докончил:
– Так сказал о человеке сам Бог!
С этим сановник вручил свои два пальца Ивану Павловичу и отпустил его со словами:
– И я так вам советую и желаю вам счастья и успехов. Ваш столоначальник почти такой же, как вы, молодой человек с прекрасным образованием и сердцем. Вам с ним будет приятно. В нем много самолюбия, и он на своем нынешнем посту долго не засидится. Я не люблю оставлять без поощрения людей способных и меня понимающих. Томить людей не следует, и никого из моих подчиненных не томить – это мое правило.
Они поклонились друг другу самым пристойным и самым выразительным манером.
Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужным для того, чтобы дело его имело надлежащий вид, он подал своему директору записку о разрешении ему вступить в законный брак с Марьей Степановной.
Граф Канкрин хотя с неудовольствием, но все-таки не отказал в просьбе Марьи Степановны и был у нее посаженым отцом.
Иван Павлович для этого случая обнаружил всю тонкость своего практического ума: он устроил свадьбу «по-английски» – тихую, в маленькой домовой церкви, состоявшей на особых правах.
Министр ни малейшим образом не имел причины пожалеть о том, что он уступил последней просьбе своей милой знакомой, которой уже ранее сказал свое «adieu».
Она ему, впрочем, напомнила об этом «adieu», когда, по приезде из церкви, осталась на короткое мгновение вдвоем с глазу на глаз с графом.
– «Adieu», – сказала она, – может говорить женщина мужчине, но не мужчина женщине. Вы меня оскорбили – это на вас не похоже.
Граф извинился рассеянностью.