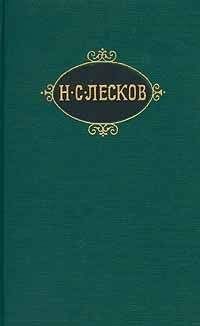Глава тринадцатая
Марья Степановна, разумеется, не могла любить литературу, а имела ее лишь только для своих практических целей. Литература представляет большое удобство, когда хочешь говорить о чем-нибудь, а не о ком-нибудь, – так, однако, чтобы это было для нас полезно. Она усвоила две-три мысли Белинского, знала какое-то непримиримое положение Хомякова и склонялась на сторону Иннокентия против Филарета. Словом – впала, что называется, в сферу высших вопросов.
Это дало ей апломб и заставило многих кивать головами: «чем-то это кончится?»
Иван Павлович уже был сделан вице-директором. Полагали, что это по жене, у которой такие прекрасные, хотя, быть может, и не безопасные знакомства.
Только она уже очень рисковала. Граф Канкрин был человек довольно свободных взглядов, однако сказывали, что и он, подписывая назначение Ивана Павловича вице-директором, поморщился.
Но судьба Ивану Павловичу служила с невероятною преданностию: как нарочно, случались такие дела, что надо было командировать туда и сюда лиц способных и достойных, и всякий раз министру представляли для таких дел Ивана Павловича.
Это было очень неприятно Канкрину, и он одно представление отложил в сторону, – сделать было неудобно; но через несколько дней граф был на одном музыкально-литературном «soirée intime» [13], куда гости попадали не иначе, как сквозь фильтр, – и вдруг там, в одном укромном уголке, граф встретил скромную женскую фигуру, которая ему сделала глубокий поклон с оттенком подчиненности и иронии и произнесла только одно слово:
– Excellence! [14]
Граф не ожидал ее здесь встретить и, немножко взволновавшись, взял ее за руку и сказал:
– Ах, мой друг, – ведь уж для него много сделано – что же такое нужно, чтобы я еще сделал?
– Только не мешайте.
Граф улыбнулся и отвечал:
– Это напоминает комедию: «Одно слово министру». – Ну, хорошо: я подпишу.
И он подписал Ивану Павловичу новое повышение.
Сила ее над графом была доказана. Пусть он и морщится, когда ему представляют Ивана Павловича, но в общем сочетании различных комбинаций все-таки приятно. Вскоре к протекции Марьи Степановны стали прибегать сторонние люди, имевшие в графе надобность по делам, и, престранная вещь, – тоже выходило успешно…
Было ли это случайное совпадение обстоятельств или нет, – в этом трудно было разобраться.
Пошло какое-то жужжанье, в котором мешали всё, упоминая что-то и про Иннокентия и про Хомякова, – и вдруг также что-то такое про взятку…
Словом, являлось острое положение, в котором надо – как говорят игроки – «квит или двойной куш».
Марья Степановна повела на двойной куш, и об Иване Павловиче в самую неожиданную минуту последовало новое представление графу к повышению.
Граф вскипел.
– Что такое!.. куда его еще!.. И притом я что-то слышал…
Представлявший отлично знал, с кем имеет дело, и хорошо нашелся.
– Да, – отвечал он, – я знаю, что говорят: это очень жалко, но это не его вина, – а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова…
Славянофильство графу было противно.
– Что такое? Какие хомяковские идеи? Это что-то про сорок мучеников… Я в этом решительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.
Но тотчас же где-то и как-то опять является «она, прелестной простоты полна», и даже без «excellence», а с одним поклоном, и дает делу желанное направление.
Увидав ее в высоком круге, граф захотел во что бы то ни стало раз и навсегда избавиться и от нее и от ее мужа самым решительным приемом.
Он сам с нею остановился, сам взял ее за руку и сказал:
– Я все, все сделаю, но другим образом.
Марья Степановна отвечала:
– Я всегда верю вашему рыцарскому слову.
Дело о карьере Ивана Павловича приходилось завершать– только бы не быть более с ним вместе.
Граф сделал комбинацию. Другое лицо большого положения – граф Панин имел надобность в услуге министра финансов.
Канкрин ее сделал скоро и охотно, а чрез некоторое время явился просить за подчиненного, которого заслуг он не в силах совместить с ограниченностию персонала по своему ведомству.
Граф Панин пожевал и отвечал, что «совмещать» многое очень трудно, и свободнее других это может разве Перовский, у которого не перечесть сколько хороших мест, находящихся в его власти.
Перовский это и сделал, а Канкрин, подписывая бумагу о согласии на перевод Ивана Павловича в другое ведомство, совсем неожиданно для предстоявших перекрестился по-русски, как сам Хомяков, и сказал:
– Это, как там говорят, «нынче отпущаеши». Наконец я не буду опасаться, что мне представят, чтобы я его утвердил начальником самому себе.
Так все были введены в обман и думали, будто, представляя Ивана Павловича, делали графу неописанное удовольствие, тогда как это было совсем напротив.
Но собственно «отпущения» графу все-таки не было. В Петербурге поняли, что в услужливости ему в лице Ивана Павловича было много ошибочного, но в провинции, куда этот карьерист поехал большим лицом и где первенствующее положение Марье Степановне уже принадлежало по праву, они были встречены иначе. В оседавшее тесто словно подпустили свежих дрожжей, и оно пошло подниматься на опаре.
Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положению и совмещала теперь это с выгодами нового положения: она стояла выше того, чтобы ее подозревать в искательности: она говорила словами Белинского «о человеке нравственно-развитом», следила за Хомяковым, беседовала с Иннокентием и… брала самые отчаянные взятки даже по таким ведомствам, которые были чужды непосредственному влиянию ее мужа. Все думали, что в ее лице заключается всеобщее надежное «совместительство».
С кем она делилась тем, что взимала, – это была ее тайна, но граф напрасно думал, будто его решительная мера отстранения совместителей от непосредственного участия в ведомстве освободила его на самом деле от их влияния.
– Совместительство, как лесть, может являться в разнообразных формах, и где не промчится зверем рыскучим, там проползет змеею или перепорхнет легкой пташечкой. Надо свет переделать или, другими словами, приучить людей, чтобы они в каждом деле старались служить делу, а не лицам. Вот это поистине прекрасная задача, и добром вспомянется имя того, кто ей с уменьем служит.
Так закончил свой рассказ правдивый и умный человек, со слов которого мною теперь передана вышеизложенная историйка «о совместителе».
Впервые напечатано – журнал «Новь», 1884.
Граф Егор Францович Канкрин род. 1774 г., состоял генерал-интендантом в 1812 г., а с 1823 года министром финансов. Умер в 1846 г. Был отличный финансист и известен также как писатель; писал на немецком языке. (Прим. Лескова.).
Здесь: побренчать (нем.).
с распростертыми объятиями (франц.).
Дитя мое (франц.).
Имена героя и героини я ставлю не настоящие и фамилии их не обозначаю. От этого изображение эпохи и нравов, надеюсь, ничего не теряет. (Прим. Лескова.).
Спасибо, дитя мое (франц.).
подноса (франц.).
прощайте, мое дитя (франц.).
до свидания, господин N – ов (франц.).
жалкое бренчанье (франц. и нем.).
Мой ангел (франц.).
«бывшей» (франц.).
интимный вечер (франц.).
Ваше сиятельство! (франц.)