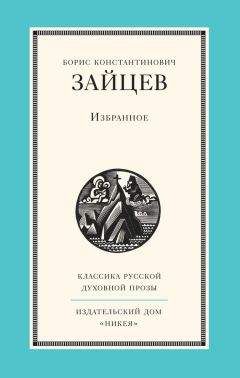– Ты, милая, уйди теперь, дай мне одной побыть.
Старческими коленями стала няня в снег и начала молиться. Аграфена бродила меж могил и чувствовала себя в странном, морозном раю; точно вся полегчала и опрозрачнела. У ограды дальнего конца она остановилась. Над ней вились щеглы, она оперлась на снежный парапет и глядела долго на заречные дали. И вдруг в тишине снегов нежащее, острое виденье выплыло из глуби и наполнило ее сладкой болью. В этом не было ничего странного, но как раз та секунда сказала ей с беспредельной ясностью, что близко, близко…
Назад с кладбища Аграфена возвращалась одна. Проходя по плотине мимо катка на пруду, осененного вязами, она увидела братца; он скользил уверенно и стройно на американских коньках, а перед ним, убегая, несясь, летела девушка в бархатной шапочке. Аграфена чуть приостановилась; затем продолжала путь.
В воскресенье, с самого утра, Аграфена почуяла тоску. Она была одна; все ушли, и ее мысли, бродя за плавными снежинками, летевшими с неба пеленой, погружались во мрак. Тогда ей пришло на ум, что она может пить. Первый раз в жизни в тот день она пила и узнала туманный хмель, сладкую призрачность, встающую из него, – глубокую его рану.
К вечеру хмель ушел. Но остался трепет и как бы буйность. В полусумерках вернулся братец, и, как ей показалось в передней, острая мужская дрожь пробежала по нем. С тайной сладостью стала она мечтать, сидя в своей комнате, вспоминала, как хмур и беспокоен он, как таит в себе вскипающее, и опять с болью плыли перед ней ноги, белые, белые, как у девушки. В поздний час, за полуночью, она, задыхаясь, кралась через черный дом, полный сна, к его комнатке. Как и тогда – отворила, замкнула и дрогнула: заскрипела пружина на постели.
– Кто тут?
– Я.
Стало тихо, она подошла, прильнула, потопила его в себе – режущей сладостью утоляла свою любовь – такую плотскую, больную такую, темную, непонятную любовь.
Когда ранним утром, вблизи рассвета она уходила, серели пятнами окна; на постели лежало измученное тело – белый цвет и дикий, теплый запах зверей стоял. А она не могла наглядеться на него, не могла натрепетаться от острого, сорванного цветка: рождающегося мужчины.
Потом она проходила по пустым комнатам, на рассвете. Холодная тень, цвета пепла, легла ей на душу. Нечто темное встало, загородив дорогу. Так взяла она его.
Очень скоро узнала, что не на радость. По-прежнему был братец худ и жалобен с виду, а теперь стал еще и стыдиться. Когда, встречаясь днем, она длинно взглядывала на него, он вспыхивал и нырял скорее в свою комнату, а еще хуже получалось, когда приходил кто-нибудь.
К Клавдии часто забегали подруги: молодые барышни и гимназистки. Была между ними и та, с кем она его видела в зимний день на катке. С нею он почти не говорил; бледнел в ее присутствии, смущался. Аграфена, подавая, унося, рассматривала их обоих тяжелым взором, и мутное чувство селилось в ее сердце: сидят, смеются, может, любить уж начинают друг дружку, а того не знают, с кем он по ночам… Медленная злоба затопляла ее. О, как ненавидела она этих легоньких барышень, с духами и тонкими ножками – кому и жить только, чтобы целоваться да на балах плясать, – пусть бы сошли к ней, в подземную кухню, хлебнули ее горечи.
Когда братец бывал в гимназии, она, убирая его комнату, не раз разглядывала его вещи, и скоро увидала, что в бумагах появилась тайная карточка, портрет той. Аграфену обожгло, но она сдержалась и молчала, он же, как прежде, трепетал и бледнел, ходил на каток чаще и по тем улицам, где ничего ему не надо было. Перед Масленой однажды к вечеру налетели рои барышень, гимназисток: устраивался бал. «Стрекочут, – думала Аграфена, – все стрекочут». Как всегда, в этом было крайнее неодобрение. Весь вечер после них Клавдия с братцем разговаривали; волновались, спорили даже, что и как снаряжать. Аграфена же хмуро ворочалась, не могла заснуть, и опять мысль о вине и горьком хмеле вставала в ее мозгу.
В день бала братец с утра был не свой: точно решалось что-то для него. Напяливал мундир, доставал белые перчатки и душился. В восемь часов заехала та, и как вошла в комнату в платье своем белеющем, с легким духом вокруг и тоненькими девичьими ножками – показалась Аграфене невестой: сияющей и ослепительной.
– Ну, хороший мой человек, покажись! – Доброе лицо тетушки Люце расцвело улыбкой. – Хорошо оделась, ангел мой, очень хорошо!
Потом она лукаво глянула на братца.
– Вот бы, Костя, тебе невесту такую. Я бы благословила.
Костя вспыхнул, повалил стул и выскочил из комнаты.
Через четверть часа они уехали. Аграфена была бледна. Белое облако молодости, сияний, люстр приняло их. В бледно-зеркальном воздухе они носились до утра среди блистающих колонн, в вальсах и нежных танцах. Робко благоухала любовь. Ее окутывали тучи тканей, прозрачных и мятущихся, и вся эта юность была одним взлетывающим существом, в золоте огня.
Аграфена же томилась в черном прозябании, без сна. Тяжкие волны били в ее мозгу; сердце источало кровь. И когда силой воли унимала она его на мгновенье, с великой силою чувствовала, что иначе быть не может; надежды ей нет. Тогда будто черную сетку накидывали на нее, душили и стягивали, ей хотелось громко кричать, криком отчаянья и безнадежности добиваемого зверя, которого подымают на рогатину. Братец возвратился на рассвете, туманный счастием и полупьяный им. Аграфена деревянно отворяла дверь.
– Хороша невеста-то?
Он ничего не ответил, прошел к себе.
Темны были ночи Аграфены, черны, черны. Дикие мятели крутили на улицах, собираясь погрести под собой город и бедную жизнь; но сердце, гибнущее в любви, мрачнее снежных ночей.
– Чем меня приколдовал, ангел мой белый, голубь сизокрылый? Голубь мой, Господи, пей мою кровь, жизнь мою возьми, всю меня!
Опять туман опьянял, братец отдавался, и шли буйные ночи и дни беспросветные, на дне которых вечно одно: не любить, не любить!
Иногда, измучившись вконец, Аграфена молила Бога, чтобы растоптал он ее жизнь, взяла скорее смерть – кончилась бы мука.
Но смерть не шла, братец не имел сил рвать, уступал голосу тела пробуждающегося и днем ненавидел еще острей, еще жестче был.
А уж в доме знали о их связи – кто посмеивался, кто шипел; не было недостачи в шпионах. Сама Клавдия стала серьезней: раз Аграфена, услышала кусочек фразы, которая не ей предназначалась, Клавдиной подруге, сидевшей с ней в столовой:
– Одну любит, а с другой живет.
Аграфена остро почуяла беду в этих словах; но, привыкши терпеть, не дрогнула и вошла спокойно.
Прошла неделя; стоял Великий пост. Снова, как тогда, в роковой день, Аграфена осталась одна в доме. В первый раз походило на весну. За день растопило даже лужи, розовый закат сиял в них пятнами, и опять багрянец над липами голыми сквозь сетку грачей говорил о несбыточном, пронзительном…
Вдруг звонок в прихожей. Аграфена кинулась. Он, братец. Но какой! Что с ним? Отчего губы дрожат и такой блеск, зеленый, в глазах?
– Мне тебя нужно, Аграфена. Молча прошли к нему в комнату.
– Я давно знал, что подлец. Слышишь? Давно. Аграфена качнулась слабо и взялась за ручку кровати.
– Я все время был подлецом. Я люблю не тебя… понимаешь, не тебя… Мучился… Хорошо это – тебе и ей разом в глаза смотреть? Легко? О-о…
И дальше – слова. Бессвязно, больно, а она все стояла, все смотрела, и стекленели ее глаза. Как чужая понимала она его, будто из другого государства.
А, однако, поняла. Да, душа его давно томилась одиноко, но теперь загажена его любовь, та тоже знает, чем был он, не мог он больше так, впотьмах, сказал. Тут упал он на подушки, на свою кровать-ложе, рыдая мальчишескими рыданиями. Аграфена же стояла, онемелая и мертвая, и не знала, что делать.
Он вскочил.
– Вон! Уходи, не могу, вон, вон.
И опять упал. Она ушла. Это был конец.
После того дня Аграфена смолкла сразу.
Братец заболел, скоро его увезли на неделю из города отдохнуть, а она прожила еще некоторое время у госпожи Люце в оцепенении.
Стояла ранняя весна; звонили звонаря к вечерним, от тихого звона тянуло давно забытым, детским, что безвестными тропами ведет к покаянию.
Аграфена говела. Скромным вечером, купив вербочек с белыми пушками, она пошла к исповеди. Небесные отсветы, розовые пятна облаков бродили по иконостасу. Там она на коленях перед стареньким отцом Досифеем поведала свои печали, плакала и взывала к Богу, прося дать сил. Отец Досифей крестил ее крестом в светлом курении ладана и голосом ясным, давно изведавшим, дал облегчение душевных тягот.
– Возвратись к дочери, ты мать, твое сердце полно чистой любви к ребенку. Проведи оставшуюся тебе часть жизни в служении ему.
Аграфена ушла светлая, тихая. Дома лежало письмо из деревни, где писали, что там становится трудно, девочка выросла, нуждается в уходе.
Аграфена сочла это за голос Провидения, таинственно воззвавшего к ней и направляющего в ему лишь ведомый путь.