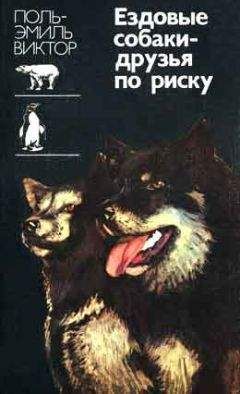Даже в эти напряженные минуты я достаточно реально оценивал обстановку и самого себя. Как известно, по одежке встречают, а выглядел я весьма непредставительно. Если в дивизионном медсанбате пропала только справка и немного денег, то при выписке из армейского госпиталя, куда нас перевели там же, в Харбине, обнаружилось исчезновение фуражки и сапог. Вскоре после того, как мы туда попали, в приступе белой горячки застрелился сержант, заведующий госпитальным вещевым складом, и на его самоубийство, очевидно, тут же списали как недостачу и растащили лучшее из офицерских вещей, что находились у него на хранении, - куда они девались, я догадывался, точнее, не сомневался... В Маньчжурии в победном сентябре, как и в Германии, пили много, ненасытно и рискованно, словно стараясь доказать невозможное - "Мы рождены, чтоб выпить все, что льется!.." Пищевого алкоголя не хватало, и оттого потребляли суррогаты, при остром недостатке, за неимением лучшего, травились принимаемыми по запаху за спиртные напитки различными техническими ядовитыми жидкостями: от довольно редких, как радиаторный антикоррозин "Мекол" или благородно отдававший коньяком "Экстенсин", до имевшихся в каждом полку этиленгликоля (антифриз) и самого безжалостного убийцы - метанола, называемого иначе древесным, или метиловым спиртом. Из всевозможных бутылок, банок, флаконов и пузырьков с непонятными иероглифами на красивых ярких наклейках жадно потреблялись и бытовые, в разной степени отравные препараты - мебельные, кожевенные и маникюрные лаки, прозрачный голубой крысид и мозольная жидкость, принимаемая по цвету и фактуре за фруктовый ликер, - пару глотков этой неописуемой гадости пришлось выпить и мне, чтобы не обидеть соседа по госпитальной палате, капитана-артиллериста, отмечавшего свой день рождения; хотя боли в животе мучали меня несколько суток, о том, что это средство от мозолей, я узнал лишь спустя неделю. В Фудидзяне, грязном вонючем пригороде Харбина, где размещался медсанбат, спирт путем перегонки ухитрялись добывать даже из баночек черного шанхайского гуталина, в несметном количестве обнаруженного в одном из складов, - пахнувшее по-родному деревенским дегтем темное пойло именовалось "гутяк", очевидно, по созвучию с коньяком. Однако лучшим, самым дорогим, а главное, безопасным алкоголем в Харбине осенью сорок пятого года безусловно считался ханшин - семидесятиградусная китайская водка заводского изготовления; ее выменивали у местных лавочников на советское военное обмундирование, особенно ценилось офицерское, и не было сомнений, что я оказался жертвой подобной коммерции. Так исчезла моя, сшитая еще в Германии, защитного цвета начальственная с матерчатым козырьком фуражка - самоделковая, полевая, какие носили в войну не только ротные и батальонные, но и полковые и даже дивизионные командиры, и пошитые там же стариком Фогелем из лучшего трофейного хрома великолепные сапоги с двухугольными тупыми носками и накатанными в рубчик рантами - такие сапоги в послевоенной армии выдавались генералам и полковникам. Взамен при выписке из госпиталя мне пришлось получить даже не суконную, а хлопчатобумажную пилотку и стоптанные, когда-то, очевидно, яловые, третьей, если не четвертой категории сапоги с короткими жесткими голенищами. Я был счастлив, что мне вернули мою серую фронтовую шинельку, столь дорогую мне шельму или шельмочку - я ее иначе не называл и по-другому к ней не обращался - старенькую, потертую, с полевыми петличками и пуговицами защитного цвета, в нескольких местах пробитую пулями и двумя осколками и старательно заштопанную, побывавшую в Европе на Немане, на Висле, на Одере и на Эльбе, а в Азии - на Амуре и Сунгари и обманувшую всех: полтора года она не только верой и правдой служила мне, но и была поистине бесценным талисманом полтора года я фанатично верил, что пока она на мне или со мной, меня не убьют, и меня ведь действительно не убили; при выписке я обрадовался ее возвращению и, понятно, не пожелал бы никакой другой, однако представительного вида она опять же не имела и защитить меня в кригере от властной ведомственной воли кадровиков никак не могла. Естественно, внешне, по обмундированию я выглядел не ротным командиром, прошедшим Польшу, Германию и Маньчжурию, не благополучным трофейно-состоятельным офицером-победителем, а скорее всего захудалым Ванькой-взводным из тыловой, провинциальной или даже таежной гарнизы.
Монетка вращалась на ребре все медленнее и в любое мгновение могла улечься вверх решкой, а я был бессилен овладеть ситуацией, хотя говорил и делал все возможное и насчет академии ничуть не обманывал. Я стоял без преувеличения насмерть, но меня дожимали, вытесняли с занимаемой позиции, и надо было срочно от обороны переходить к наступлению, надо было атаковать - немедленно!
- Товарищ подполковник, разрешите... - сделав волевое решительное лицо, громко, пожалуй излишне громко, проговорил, а точнее, выкрикнул я. - Меня ждут в академии, в Москве!.. Я не могу!!! Я должен туда прибыть!!! Я ведь зачислен - честное офицерское!..
- Вы что здесь себе позволяете?!! - вдруг возмущенно и оглушительно закричал обгорелый майор. - Фордыбачничать?! Вы кому здесь рожи корчите?!. Ка-кая академия?!! Вы что - ох.ели?!! Вам объяснили, а вы опять?!! - в сильнейшей ярости проорал он. - Вы что, на базаре?!! Чуфырло!!!
При этом у него дергалось лицо и дико вытаращились глаза, он делал судорожные подсекающие движения нижней челюстью слева направо, и мне стало ясно, что он не только обгоревший, но и тяжело контуженный, или, как их называли в госпиталях и медсанбатах, "слабый на голову", "чокнутый", "хромой на голову", "стукнутый" или даже "свободный от головы", что означало уже полную свободу от здравого мышления и любой ответственности. Я видел и знал таких сдвинутых, особенно меня впечатлил и запомнился Христинин в костромском госпитале, старшина-сапер, подорвавшийся в бою на мине и потерявший зрение и рассудок. Незадолго до моей выписки, где-то в середине декабря, при раннем замере температуры перед побудкой, еще в предрассветной полутьме, молоденькая медсестренка ставила ему градусник, нагнулась, а он, спросонок, возможно, приняв ее за немца и дико заорав, обхватил намертво обеими руками за голову и напрочь откусил кончик носа. Таких, как этот гвардии майор, я видел не раз и в медсанбатах, - я сразу сообразил, с кем имею дело, и потому внутренне сгруппировался и был наготове увернуться, если бы он по невменяемости запустил бы в меня стакан с горячим чаем. Я знал, что для таких, как он, откусить кому-нибудь нос или проломить без всяких к тому причин и оснований голову пустяшка... все равно, что два пальца обоссать.
Он заорал на меня с такой ошеломительной яростью, что в кригере вмиг наступила тишина, затем плащ-палатки посредине раздвинулись и оттуда, с той половины на эту, шагнул саженного роста, амбального телосложения капитан с орденами Александра Невского и Красной Звезды и гвардейским значком над правым карманом кителя. Его властное, красивое, с темными густыми бровями лицо дышало решимостью и готовностью действовать, и посмотрел он на меня с неприязнью, угрожающе и с невыразимым презрением. Подполковник, уловив или услышав движение за спиной, повернул голову, увидел и легким жестом левой целой руки сделал отмашку - капитан, помедля секунды, исчез за плащ-палатками, не сказав и слова, но одарив меня напоследок испепеляющим, полным неистовой гадливости или отвращения взглядом. На меня, награжденного четырьмя боевыми орденами, офицера армии-победительницы, поставившей на колени две сильнейшие мировые державы - Германию и Японию, он посмотрел, без преувеличения, как на лобковую вошь...
Позднее, вспоминая, я предположил - и эта догадка сохранилась в моей памяти, - что именно этот офицер столь напористо разговаривал повелительным хриплым баритоном в другой половине кригера с командирами взводов, заявив одному, что на нем "пахать можно", а другого уличив, что тот якобы прикидывается "хер-р-рувимой, прынцессой на горошине" и настороженно осведомлялся: "Вы что - стюдентка?.." - а затем впрямую навязывал сугубо женскую физиологию...
Меж тем подполковник, допив чай, отодвинул стакан и с удоволенным, как мне показалось, видом посмотрел в лежавшую перед ним на столе мою анкету.
- Василий... Степанович... - негромко проговорил он, слегка улыбаясь стеснительно и вроде даже виновато, - тут возникли элементы некоторого взаимного недопонимания, и мне хотелось бы внести ясность... Академия, поверьте, никуда не уйдет, и шансы попасть в нее у вас преимущественные! Набор будет и в следующем году, но сегодня... Давайте оценим обстановку объективно, учитывая не только личные интересы, но и государственные, как и положено офицеру... Армия сейчас переживает ответственнейший период перехода на штаты мирного времени. Ответственный и архисложный!.. К лицу ли нам оставить ее, бросить фактически на произвол судьбы в такой труднейший момент?.. Сделать это даже мне, - он приподнял от бумаг обтянутый черной лайкой протез на правой руке, напоминая о своей физической неполноценности, - не позволяют ни убеждения, ни совесть, ни честь! И вам, надеюсь, тоже!